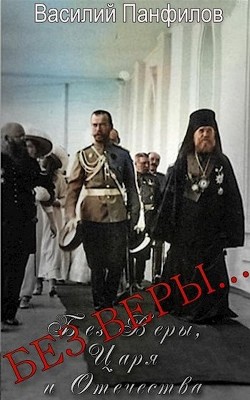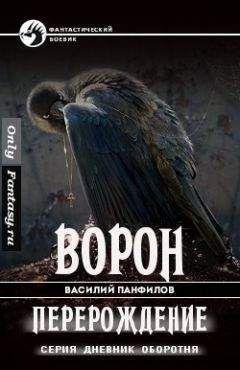будто повинуясь его словам, начали разлетаться стёкла под градом булыжников. А чуть погодя погромщиков стало чуть больше, и они начали вышибать двери, вырываясь в помещения.
Стараюсь не смотреть… я не герой, весь мой героизм закончился на Цукермане, так вот получилось. Сдулся… от чего мне стыдно и тошно. Понимаю, что тринадцатилетний мальчишка ничего не сможет сделать погромщикам, но… тошно.
… кого-то выкинули из окна второго этажа, окровавленного, в хорошем костюме. Шевелится, пытается встать… и уже спешит городовой, угрожающе шевеля усами дуя в свисток. Это — черта! Убивать — не позволено!
Отступились… из окон мат вперемешку с молитвами. Погромщики выбегают, пряча за пазуху добычу. Потом уже вижу — в узлах и вовсе по простецки — в руках! Добыча иногда такая, что оторопь берёт. Дамские шляпки, венские стулья… ну куда тебе?!
Потом всё это за бесценок разойдётся по ломбардам, а что-то останется на добрую память потомкам. Смотрите, какой у вас был лихой и добычливый отец и дед! Трофейный стул!
Видеть эту вакханалию патриотического погрома стало до того тошно, что я отправился домой. Идти назад по знакомым проулочкам накоротке не рискнул, потому что бьют иногда не по паспорту, а по морде, а она у меня в русские стандарты не очень-то вписывается.
Раз уж занесло за каким-то чёртом на Мясницкую, решил выйти на Сретенский бульвар, и оттуда уже вернуться в Милютинский переулок, где меня знает каждая собака, и где я свой, а погромщики — чужаки.
На Сретенском тихо. Как ни в чём ни бывало, ходят трамваи и проезжают коляски с нарядно одетыми дамами и кавалерами. Лишь изредка, как-то очень торопливо и по крысиному, пересекают бульвар погромщики, пугаясь пристального внимания и открытых пространств.
Сильно разболелась голова, и я заспешил домой, уже не пытаясь думать, анализировать и смотреть по сторонам. Добрался без приключений, и уже дома, когда я мылся в ванной, догнала вдруг мысль, что это ведь — только репетиция!
Глава 10
Размышления, террор и социальные связи
За окном кружит запоздалая и сырая мартовская метель, завьюживая крупные хлопья мокрого, липкого снега. Ветер сильнейший, злой, порывистый, так что иногда под его воющими ударами дребезжат стёкла в оконных рамах и всё кажется, что вот сейчас они вылетят, и вьюга ворвётся в квартиру, кружа в танце крупные, чуть ли не с пол ладони, снежинки.
На улице так темно, будто сейчас не два часа дня, а давно уже поздний вечер и скоро придёт пора ложиться спать. В квартире очень жарко, но по полу гуляют ледяные сквозняки, от которых не слишком спасают даже домашние туфли на меху. Ступням тепло, но лодыжки зябнут, несмотря на высокие шерстяные носки.
Отец, сидящий глубоко в кресле и закутавшийся в тёплый шлафрок [29], иногда глухо, простужено кашляет, после чего к обветренным губам подносится стакан с ромом, а затем следует папироска в мундштуке слоновой кости. Лечится…
Нина, сбросившая домашние туфли, забралась в кресло с ногами, поджав их под себя, вслух читает мамино письмо. Пишет та достаточно редко, но как здесь принято, очень развёрнуто, многостранично. В этом письме порядка тридцати страниц, пронумерованных и прошитых шёлковой нитью, но бывает и больше.
Эпистолярный жанр в этом времени развит и популярен, хотя уже и катится к закату. Люди помоложе всё реже пишут письма, и уж конечно, не на десятки страниц! Но это искусство не скоро уйдёт в забвение, хотя их позиции постепенно отвоёвывает телефон и телеграф.
Однако же родители у меня из того поколения, когда умение писать письма считались важнейшими для всякого образованного человека. Привычка…
Да и дороги пока телефонные разговоры. За обыкновенный, то есть не срочный телефонный разговор между Москвой и Петербургом, длящийся не более трёх минут, взыскивают полтора рубля. А сколько запросят за переговоры с Данией, я даже представить боюсь!
В этот воскресный день мы всей семьёй собрались в гостиной. Нина читает вслух, отец пьёт и курит, Люба вяжет, а я рисую в тетради карандашом, нарабатывая то правую, то левую руку и пытаясь вспомнить техники изобразительно искусства хотя бы начерно. В общем, почти семейная идиллия.
Читая, Нина то и дело останавливается и начинает обсуждать что-то, апеллируя к отцу или старшей сестре. Иногда она вспоминает про меня, но именно что «вспоминает», какого-то порыва обсудить прочитанное именно что со мной не вижу.
Люба отвечает развёрнуто, отец односложно, делая хорошую мину при плохой игре. С матерью они так и не развелись, хотя уже несколько лет живут отдельно. Почему так, и планировали ли они вообще разводиться, я не знаю, да и не принято здесь обсуждать такое вопросы с детьми.
Чтение в семейном кругу считается приятным досугом, а также способом воспитания и социализации подрастающего поколения. Оно закладывает понятия чести, долга и достоинства… так, по крайней мере, принято считать.
В принципе, так оно и есть, в нормальных семьях читают, обсуждают прочитанное, рекомендуют любимые и делятся эмоциями. У нас же… не скажу, что всё плохо, но и назвать этот досуг особо приятным не могу.
Я вообще не люблю читать вслух, а обсуждать прочитанное с семьёй зарёкся ещё пару лет назад, сильно замкнувшись в себе. Люба читает иногда, но скорее по обязанности, в силу воспитания и вбитых в гимназии шаблонов а-ля «Воспитанная барышня».
Я с ней никогда не был близок, так ещё и разница в возрасте и гендере сказывается. Всё-то ей кажется, что я маленький, неразумный и не смогу оценить метаний высокого разума…
Возраст такой. Все вокруг кажутся глупыми, а она — этакая одинокая мятущаяся душа, полная высоких порывов и страстей, единственная во Вселенной.
С отцом Люба вежлива, но ухода матери ему так и не простила. Это скорее посторонний человек, постылый и надоевший, который почему-то живёт в одной квартире с нами.
Это вот подсознательное отношение буквально врезается в навязываемые обществом, Церковью и гимназией поведенческие шаблоны, отчего сестра мучается, считая себя неправильной, бракованной. Родителей положено почитать, и точка!
Со мной, к слову, она не мучается. Просто младший докучливый брат, которому