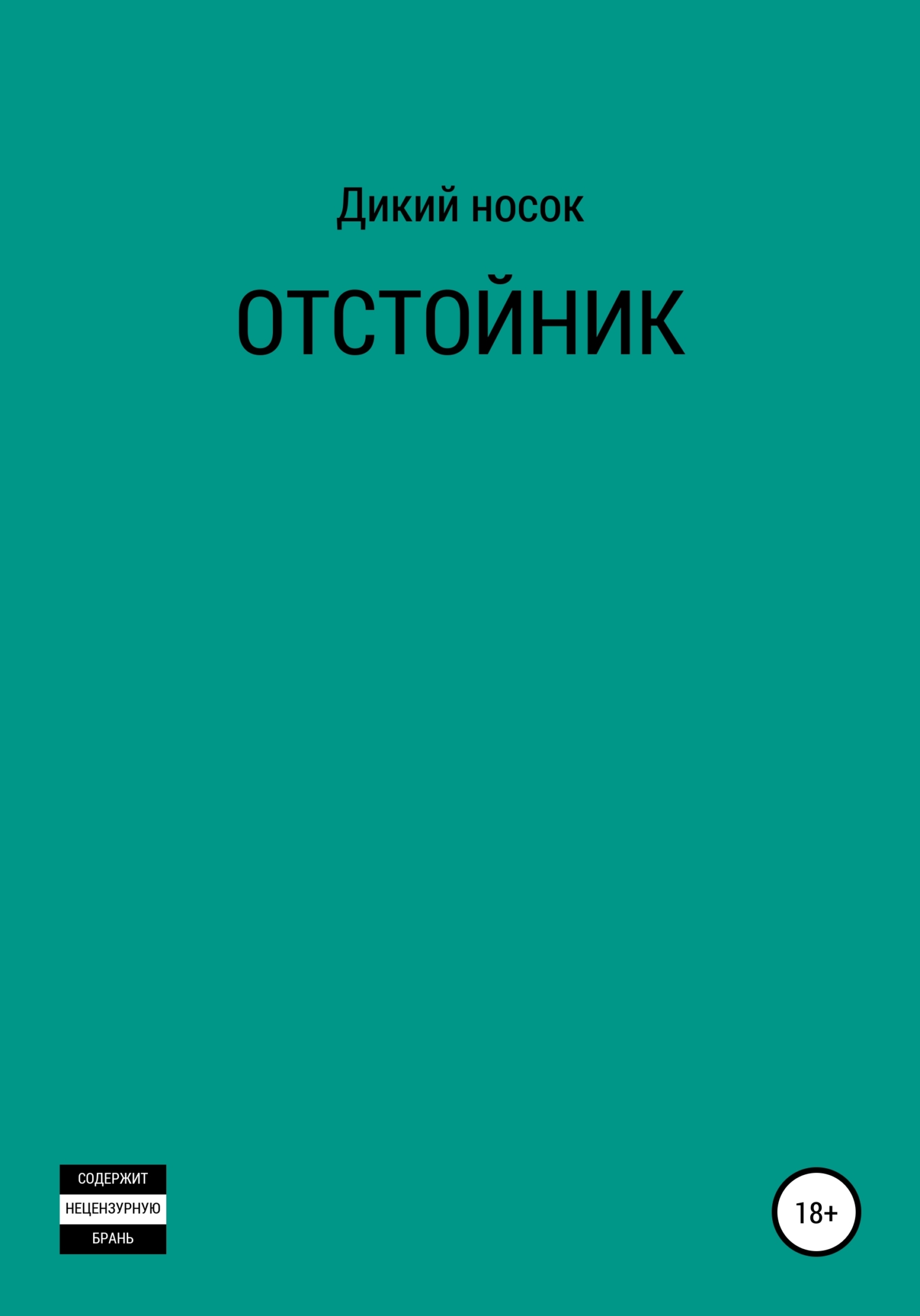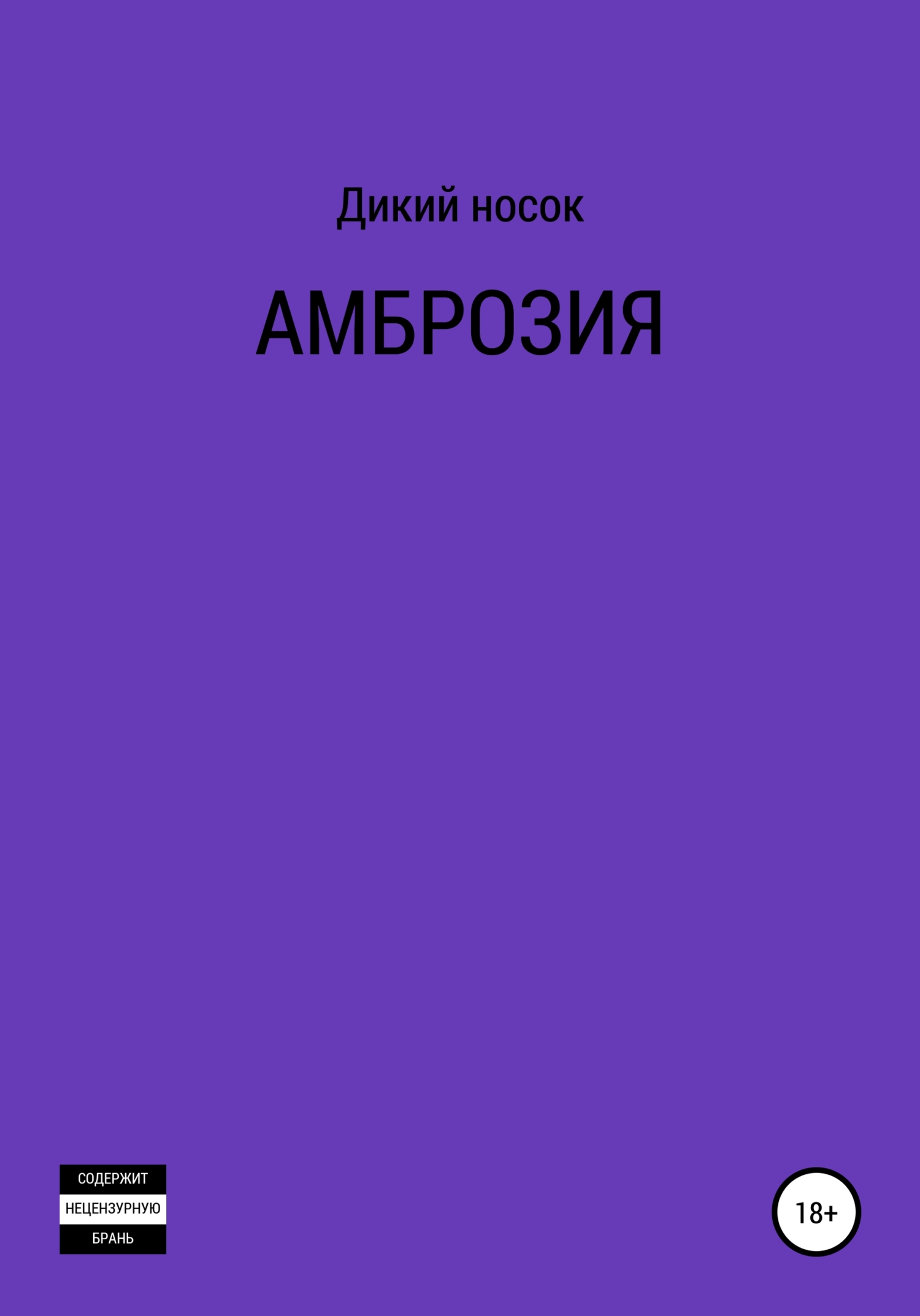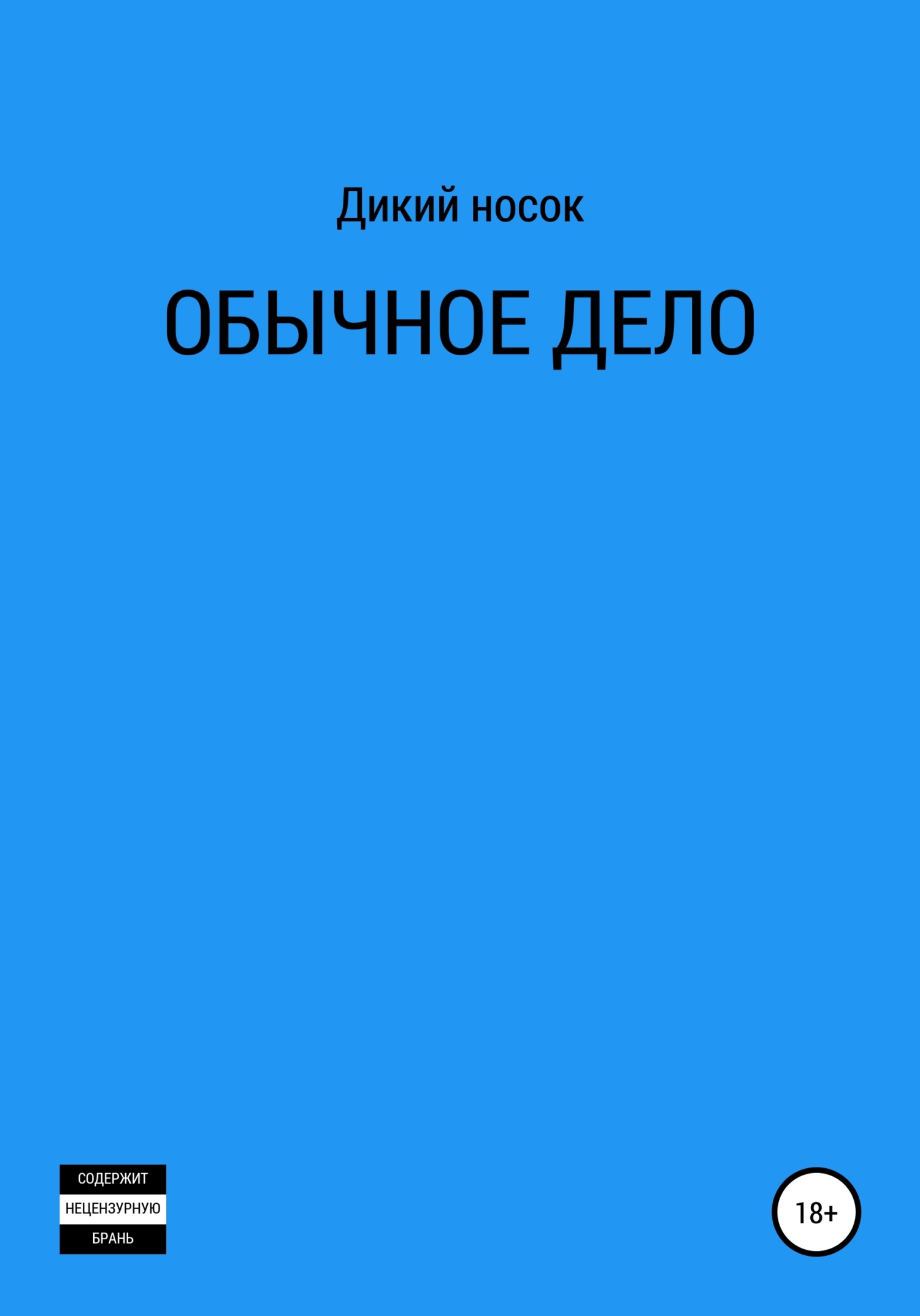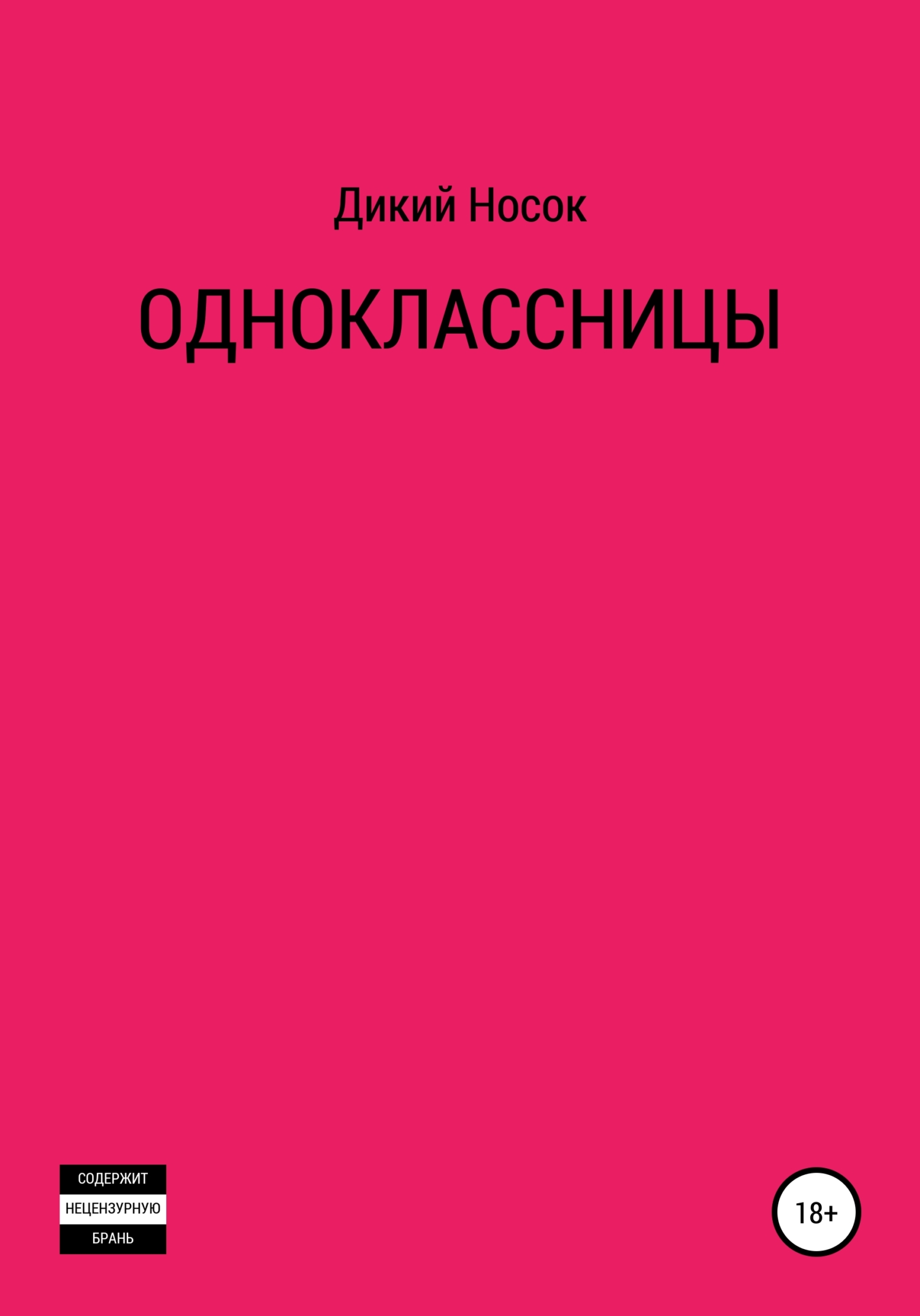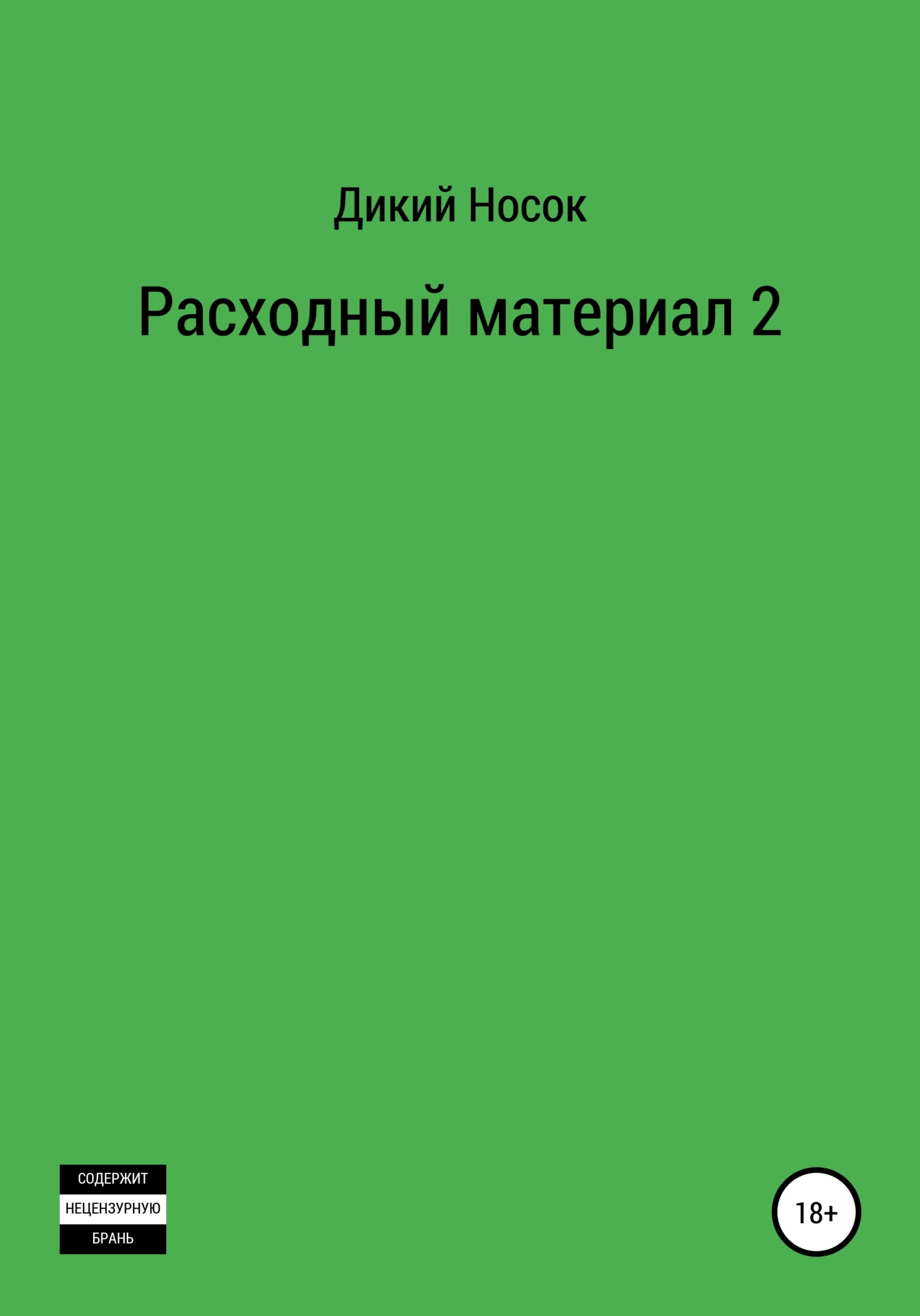ее конца, пусть даже смерти, только скорее. Хоть какой-то определенности, чтобы мир снова стал простым и понятным.
Когда Стратег открыл глаза, юноша все также стоял у дверей, лицо его дрожало, точно рябь на воде. Выражение ужаса, отвращения, недоумения чередовались на нем с такой скоростью, что черты расплывались, будто изображение в кривом зеркале.
«Подойди ко мне, дитя,» – ласково улыбнулся старик, поманив рукой. Обретя хоть какую-то ясность, Вану с готовностью кинулся к патрону, опустился на колени и припал к подлокотнику кресла, словно доверчивый щенок к ногам хозяина. Деймон по-отечески погладил по голове дрожащего юношу. Потом наклонился и ласково поцеловал его в лоб.
Не по-стариковски крепкие пальцы Деймона сомкнулись на его шее и начали сжиматься.
«Сейчас, мой милый. Еще немного. Потерпи, сейчас все закончится. Вот так. Вот и все.»
Полные слез и отчаяния глаза Вану закрылись, руки, царапавшие смертельный узел на шее, упали, тело обмякло и опустилось на пол. Стратег горестно вздохнул. Из его глаз тоже лились слезы, смешиваясь с кровавыми каплями на щеках. Вану, милый мальчик! Ну что же делать? Что же ему было делать? Как ему будет не хватать этих любознательно-восторженных глаз. Но он не мог позволить Заре все испортить, разрушить его мечту, растоптать будущее всех обитателей Дома, сколь бы призрачным оно пока не было. Только он – Стратег знает, куда и как повести за собой людей. На земле осталось не так много относительно пригодных для жизни человека мест. Рано или поздно и другие Стратеги поймут, что Дома – тупиковый путь развития. Да и не развития уже, а деградации. Необходимость переселения назрела. Пока это понимает лишь он, и действовать надо без промедления. Две человеческие жизни – небольшая жертва для благоденствия остальных. Она была необходима.
А теперь нужно навести порядок. Какое невероятно грязное это действо – убийство. И не в смысле душевного потрясения, а в самом что ни на есть прямом. Хотя в мыслях и чувствах, конечно, тоже полный разлад. Перво-наперво – избавиться от тел. Теперь то он знает, как это сделать. То, что годится для живых – мусорные чехлы, то тем более сгодится для мертвых. А дальше щупальце поглотит их без следа. Хватило бы только сил. Как мучительна эта старческая немощь! Просто наказание! Но ничего. Он справится. Должен справиться. Просто обязан.
«Глянь, Горыныч, чей-то у нее на морде?» – обратился совсем еще молодой человек с неровно пробивающимися пшеничными усами и собранными кожаной тесемкой на затылке в хвост волосами того же оттенка к своему спутнику.
Горыныч – битый жизнью мужик лет сорока, косматый без меры, словно леший и возвышающийся над юношей на добрую голову, осторожно потыкал в голову животного палкой, потом ощупал пальцами и попытался отодрать. Белая плотная масса отошла без труда, изнутри к ней, а точнее в нее, влипли роскошные кисточки с ушей рыси, её длинные усы и кусочки кожи вместе с шерстью.
«На засохший рыбий клей похоже,» – заключил он, понюхав ничем не пахнущую белую массу. – «Куда это она вляпалась? Никак не пойму. Да так неудачно. Видишь, Матвей, эта дрянь ей в нос забилась и пасть заклеила. Задохнулась, поди, красавица.»
Юноша с сожалением перевернул тушу. Шкуру издохшей рыси уже изрядно попортили падальщики большие и малые. Это было досадно. Зимой она бы точно не была лишней. А взять с рыси кроме теплой шкуры было нечего.
«Темнеет уже,» – потерял к находке интерес Матвей. – «У реки на ночь устроимся?»
«А? Да, найди местечко, да разведи огонь. А я пока пошарю вокруг. Поищу, куда кошка сунула свой любопытный нос. Оно тут где-то рядом должно быть.»
Пока Горыныч напрасно лазил по бурелому, Матвей, прорубившись сквозь густой, молодой осинник, выбрался на каменистую полянку и обнаружил на ней примятую траву меж камнями, остывшее кострище и остатки собранного в лесу валежника, не попавшие в костер.
«Дядька, Горыныч, иди сюда,» – негромко позвал Матвей, а потом, вспомнив, как было говорено действовать в таком вот случае, когда рядом могут быть чужие, свистнул с переливом.
«Чего шумишь, балбес,» – укоризненно покачал головой появившийся Горыныч. – «Учу тебя, учу. А все не впрок.»
«Да нет тут никого. Угли остыли давно. Дня два кострищу, не меньше,» – оправдался парень.
«Хорошо, коли так,» – оглядел полянку Горыныч. – «Ишь примяли тут все вусмерть, ровно стадо слонов. Видать, много людей было. Поостеречься надобно. Не голоси без повода.»
Последнее, сказанное назидательным тоном, предназначалось, разумеется, юноше.
«Ночью постережемся, а с утречка пойдем, поищем, посмотрим, кто такие,» – решил Горыныч.
Дядька для Матвея был непререкаемым авторитетом. Немногословный, угрюмый, внушающий уважение уже одним своим двухметровым ростом и пудовыми кулаками и суровый с виду, точно медведь-шатун, Горыныч вгонял в трепет любого человека. Но вот кошку Маруську ему провести не удалось. Мурена раскусила его с первого взгляда, неведомо как почуяв нежность в душе, которую к людям Горыныч проявлял редко, а к кошкам всегда. Бесстрашная Маруська почитала дядькину грудь лучшей подушкой на ночь, ему первому приносила познакомиться свой приплод, когда на других-прочих еще шипела змеей, и сопровождала его по деревне, не опасаясь собак и трубой держа рыжий хвост.
Матвей с сестренкой Алиной угодили под дядькину опеку прошлой зимой, когда мать умерла поздними родами, а новый её муж, не пожелавший брать на себя ответственность за двух чужих детей, вернулся в свою деревню. Надумала тоже, в ее то годы детей рожать. Матвей то ладно, и без матери проживет. А Алинка? Мала ведь еще совсем. Затаенная обида на мать, нет-нет, да и покалывала, вышибая слезу из глаз. Из близких родичей у них оставался только недавно овдовевший Горыныч, чьи три взрослые дочери уже обзавелись своими семьями. Так на Совете деревни и порешили, что взять их надобно ему. Дядька не отпирался, протянул Алинке свою ладонь, размером со снегоуборочную лопату, в которую девчушка доверчиво вложила свою, и повел в дом. Следом потянулся Матвей с пожитками. Кошка Маруська перебралась на новое место жительства сама, деловито обнюхала дом, пересчитала кур и уток в загоне, фыркнула на осторожно переступающую ногами лошадь и устроилась за ужином на лавке рядом с дядькой, угощая того свежепойманной мышью, урча и потираясь усами о его локоть. Дом, где они жили с матерью до поры, до времени заколотили.
Горыныч только глядел сурово, а добрее его человека еще было поискать. Уж лучше б он ругался, как мать, а то лишь взглянет сурово из-под бровей, а Матвея так и пробирает стыд