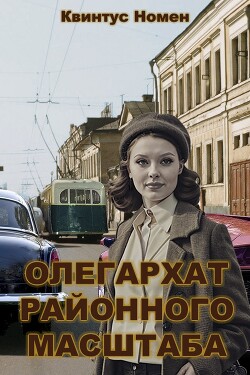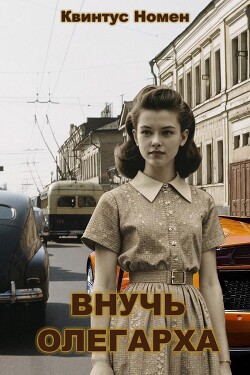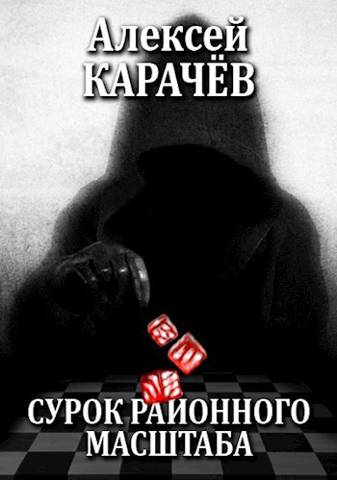Было совершенно естественно — для меня, по крайней мере — то, что!войной' со Средмашем я не ограничилась. Больше того, это «война» у меня вообще получилась на уровне хобби, а большей частью я с остальными министрами «девятки» общалась на предмет того, насколько им интересны мои «наработки» в плане организации «районного хозяйства». Потому что у очень многих предприятий и свои «деревенские угодья» имелись в виде так называемых «подсобных хозяйств», но больше я обращала внимание на то, каким образом они могут (если хотят, конечно — но хотели все) улучшить бытовые условия своих работников. И что им для такого улучшения, собственно, надо.
Проще всего оказалось общаться на эту тему с авиастроителями, хотя бы потому, что они не только «хотели», но и «могли» — технически могли. На своих достаточно многочисленных «вспомогательных» предприятиях они могли и кое-какое нужное оборудование изготовить (как строительное, так и сельскохозяйственное), и — что они и так делали, никому об этом не говоря — ремонт много чего произвести. И даже по части транспорта у них определенные возможности были — но только в рамках своего министерства решить все имеющиеся проблемы по этой части у них все же возможностей не было. Но возможностей, которых не было у авиаторов, были, например, у Энергомаша или у Общемаша, которым в свою очередь эти потенциальные возможности тоже были не особо интересны, так как они покрывали уж очень узкие потенциальные потребности. Так что по результатам кучи совещаний (чаще всего вообще «селекторных», некогда мне было по разным конторам носиться) постановлением Совмина (то есть моим личным все же) был организован межотраслевой трест, который занимался тем, что у каждого министерства «брал по способностям», а затем полученное общими усилиями «распределял по потребностям». Ни хренашечки на коммунизм это похоже не было, в тресте «потребности» определялись даже не по размеру вклада каждого министерства (хотя и он учитывался), а потребностями всего Союза в той или иной продукции (которую как раз я и должна была определять: все же трест, чтобы не вызывать бурления говн у «непричастных», организовывался в рамках КПТ). И поначалу такой подход вызвал серьезное недовольство как раз у авиаторов: так уж сложилось, что я лучше всего знала об их «неиспользуемых резервах» и на авиапредприятия разбросала самую большую часть заказов по строительной части. Но буквально через неделю возмущаться авиаторы перестали: я «обнаружила» и в других министерствах «неиспользуемые резервы», так что всем от меня уже прилично досталось.
Но главным своим «достижением» я сочла то, что успела создать еще один трест, уже подчиняющийся непосредственно Совмину, и обязанностью которого стало как раз выявление резервов и распределение между предприятиями задач по производству ТНП, налаживание межотраслевой кооперации по такому производству, а так же реализация всего выпущенного населению — а вся выручка как раз в фонды министерств и уходила. И выручку эту министерства (и даже отдельные предприятия) могли тратить исключительно на нужды собственного «жилсоцбыта» — и это вызвало среди руководства предприятий живейший отклик.
А еще всем очень понравилась проталкиваемая мною «автоматизация системы управления предприятиями»: какие-то зачатки такого уже много где имелись, но именно зачатки, а я начала «активное внедрение» именно комплексной системы (разработанной, кстати, у Сережи в институте). И очень боялась, что всего задуманного у меня воплотить просто времени не хватит, поэтому парочка выданных мною постановлений получились очень «сырыми» и их пришлось на лету допиливать (что на самом деле прилично мешало работе), но основное я сделать успела. И надеялась, что Николай Семенович, вернувшись, не «отменит все обратно взад».
Но кроме работы по министерствам я и за работой Комитета сильно все же приглядывала. И особенно приглядывала за творящимся в Приозерном, точнее, особенно приглядывала за тем, что в районной больнице творилось. Потому что там творилось настоящее чудо: там наладили по методике профессора Хватова проведение ЭКО, так что даже очень немолодые женщины получили возможность родить нормального ребенка. Но если после войны родить ребенка без отца означало как минимум впадение такой семьи в нищету, то уже году так к шестидесятому это стало означать, что все будут сыты, в целом здоровы и заметно улучшат свои жилищные условия: матерям-одиночкам уже много где вне очереди выделяли отдельные квартиры или в деревнях новые дома строили. Матерям замужним все равно рожать было выгоднее, чем одиноким — а вот одиноких, так и не нашедших себе вторую половину, в поколении военном, но еще родить в принципе способных было в стране немногим больше пяти миллионов человек. Однако с войны-то почти двадцать лет прошло — а тут появилась гарантия, что даже в сорок и сорок пять ребенок здоровым родится!
Так что я отчеты из больницы получала каждый вечер: для меня вопросы обретения одинокими женщинами собственной, хотя и такой неполной, семьи тоже имели очень высокий приоритет: все же военный «демографический провал» получился огромным, а ведь я еще даже старухой не стану, когда страну «вторая волна» военного провала накроет. И кто мне будет денежки на пенсию зарабатывать? А тут вроде появлялась возможность о пенсии особо и не волноваться. Правда, волноваться приходилось по другим причинам: я ведь, прослышав о Приозерском эксперименте, бумажки-то подняла, выяснила, что ЭКО в Симферополе успешно провели еще в пятьдесят четвертом. Хотя и бумажки оказались не совсем «достоверными»: в документах Хватов «всю вину» взвалил на своего ассистента, который лично операцию провел, некоего доктора Петрова — потому что тогда «научная общественность» возмутилась по поводу «экспериментов на живых людях» и признание профессору грозило серьезными неприятностями, а с лаборанта какой спрос? И не только профессору пришлось туго: насколько я поняла, женщину, которая на ЭКО согласилось, вынудили аборт сделать — но у меня по поводку таких «экспериментов» было мнение совершенно иное и я, благодаря своим «возросшим возможностям», всякую критику процедуры полностью зажала. Вплоть до того, что к самым воинствующим критиканам я посылала Лену, после чего критика мгновенно прекратилась. А эксперименты — продолжались, и к концу января там уже два десятка не очень молодых женщин жили в ожидании нового счастья, а заведующий гинекологическим отделением сообщил, что в очередь на процедуру уже больше сотни их записалось. Но о результатах все же говорить было еще рановато…
Тридцать первого января я приготовилась «вернуть дела товарищу Патоличеву», специально торт даже заказала, которым хотела отметить «торжественный вынос моего тела из начальственного кабинета». Но утром, еще в самом начале восьмого, Николай Семенович мне позвонил:
— Светик, тут такое дело… в общем, врачи пока Николая Александровича на работу не выпускают, так что ты посиди еще в моем кабинете некоторое время.
— Некоторое — это сколько?
— Это, думаю, до конца марта. Даже если Николай Александрович раньше на работу выйдет, я тогда в отпуск уйду, все же лет пять в отпуске побывать не получалось. А ты, я глажу, работу тянешь неплохо… мне на тебя уже столько жалоб пришло, аж душа радуется! И вот еще что: ты ко мне к девяти заскочи, нужно будет парочку вопросов лично обсудить, договорились?
Ну, что с работы меня снимать (и не работы заместителем, а с должности Председателя Комитета) Николай Семенович не собирается, уже радовало. А еще два месяца на позиции Первого зама — это сколько же еще я наворотить успею! А разговор с Николаем Семеновичем получился коротким:
— Светик, я вот что думаю: ты уже девочка большая стала, из комсомола по возрасту уже выходишь. Не пора ли тебе в партию вступить?
— нет, у меня с партией есть серьезные идеологические разногласия.
— Это какие такие разногласия⁈
— Такие: партия хочет с меня денежек слупить в виде партвзносов, в мне семью кормить надо, денежек этих мне жалко.