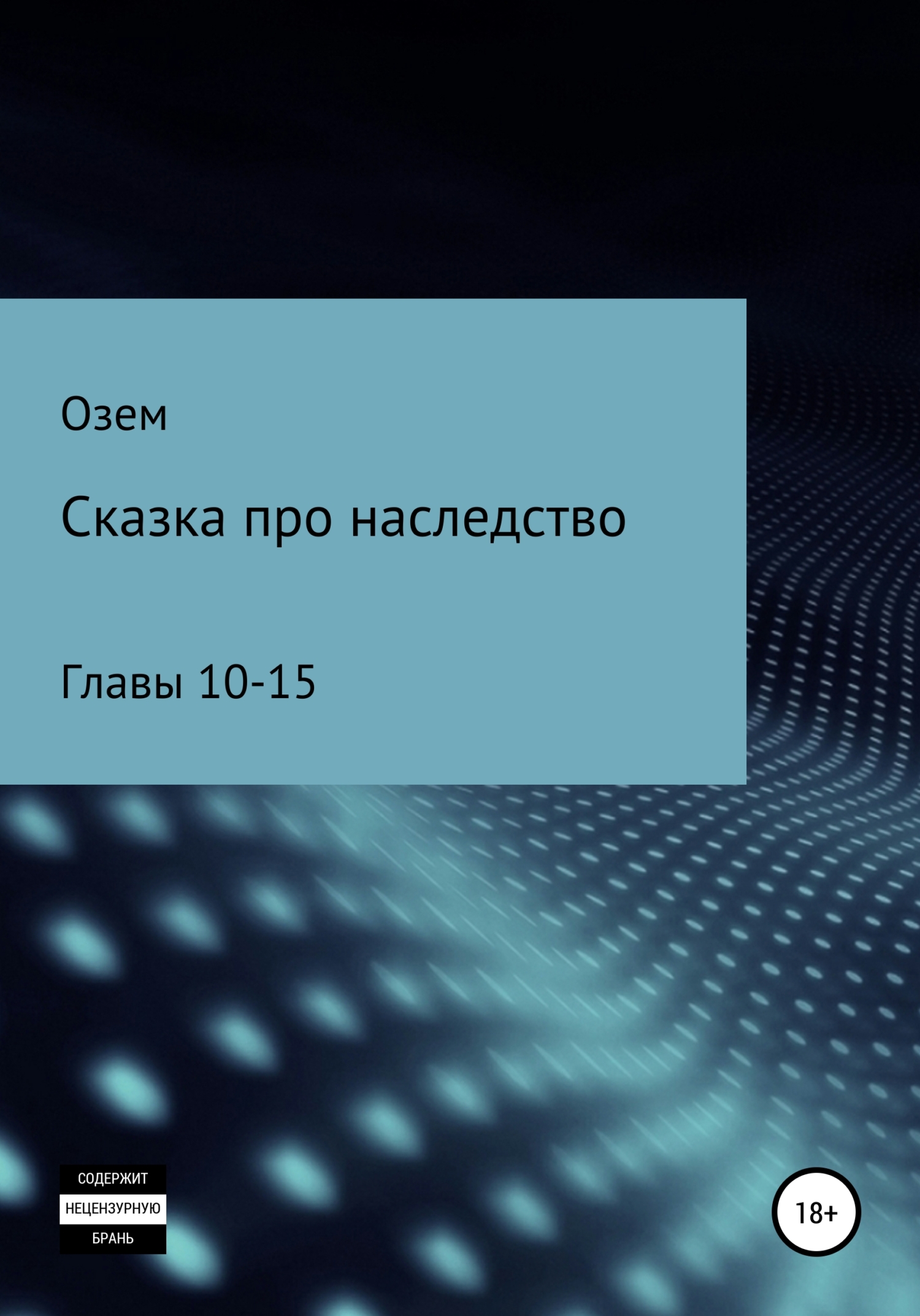одна – одинешенька? Почему-то мы сразу почувствовали, что кроме старухи никого здесь нет. Только мы и старуха. Ужас! Перемигнулись – надо что-то сказать, хотя бы поздороваться… Здравствуйте, бабушка. Слова застыли на губах. Бабушка вроде старая – престарая, платок низко повязан, а в тени от глубоких глазниц эдак синий взор резанул – гм, по носу… А лица мы ее не увидали. Почти побежали прочь. Обитаемый, выходит, хутор-то! И никто нас приветливо не встречает.
Вроде пронесло. Миновали мы развалины – вот последний домишко, самый маленький – чтобы в дверь войти, пригибаться надо. За домишком уже березки склоняются, зеленая трава на солнце глянцем отливает. Все мирно, безмятежно дышит… Мы бегом к березке, боковым зрением опять уловили шевеление, всмотрелись внимательней – опять бабка в платке стоит – как она сюда поспела? И не запыхалась даже. Стоит опять же против солнца – лицо в тени. И пока мы к деревьям не добежали, чувствовали спиной покалывание – странный синий-синий бабкин взгляд… Третий раз добил окончательно – как поравнялись с деревьями, голос внутри шепнул – не оборачивайся! Не оборачивайся – ох, не к добру… – но все же обернулись. Бабка стоит под березой – этот платок ее, силуэт… Мы аж закрестились.
Впереди небольшой колок – стайка берез и осин. На их фоне что-то темнеет. Ближе разглядели – могилы – хуторских, наверное, своих хоронили. Был же здесь хутор… Высокая густая трава, из нее покосившиеся кресты торчат. Сверху деревья волнуются – жалобно так. И тут резко наступил вечер. Синие тени вытянулись, до нас достали. Ветер налетел – и ну, одежду рвать. Мы поежились. Даже мысль мелькнула – может, вернуться? Но мысль отвергли – возвращаться придется через развалины, а там бабка… Да и зачем возвращаться, когда озеро совсем близко – вот оно. В траве заблестело серебро, послышался тихий плеск. Мы вышли на берег. Какая красота! Размотали удочки в ожидании удачного клева. Страхи отогнали, глубоко в мыслях спрятали.
Рыбалка и впрямь удалась. Надергали мы огромных карасей, прыгали от восторга и спохватились, когда солнце уже опускалось за пять вершин – иль не пять… Ночевать на берегу нам не хотелось – до проклятого хутора близко, а бабка легко передвигается, преодолевает расстояния. На метле летает… Шутки на бабкину тему не смешили. Все равно надо утра ждать. Утро вечера мудренее… Мы решили снова пройти через заброшенный хутор, обогнуть Пятибок-гору и заночевать уже в степи. Всех рыбин с собой не утащить – взяли только самых крупных, завернули в тряпье, остальных выпустили в озеро. Как мы бежали, надеясь миновать странные места, пока ночь не накрыла. Между могилами я споткнулся, и узел с уловом выпал из рук. Мне почудилось, что рядом что-то встрепенулось – что-то, доходящее ростом до моего бедра, мягкое, пушистое и как бы ушастое – и споткнулся я потому, что кто-то встрял мне на пути, слово наперерез бросился. Узел сполз по склону, я за ним – жалко, наловили рыбу… Угодил ногой в какие-то сухие ветки – колко… Гнездовье там. Клянусь! И не пустое – в середке что-то синеет, цветок навроде… Рыбу я искать не стал – мы как припустили! По горе бежали во весь дух. Немного успокоились внизу, отдышались.
Сзади послышался голос – не мужской и не старухин – голос молодой женщины, не было в нем трескучих звуков – напевно так, не спеша, серебристо:
– Ты кое-что забыл, Агап (откуда она имя мое знала?). Среди могил осталось. Непорядок. Забрать должен. А когда вернешься, то и останешься насовсем. На Шайтанке. Ты сам так сделал. Не исправить теперь уж.
Давно это было. Я над смыслом слов не задумался, но в память они намертво впечатались (типа воинского устава) – через годы женский голос слышу. И понимать начал только годы спустя. Как вернулся я сюда – почему, неважно – жил в Оторванке, в разрушенном доме. Долго жил. Я тогда стены подпер, крышу поправил – все равно затапливало в сильный дождь, и зимой промерзал дом – топи – не топи… Печка худая, топить нечем. Время от времени трудился в совхозе – что-то платили. У меня еще плотником получалось. И работа всегда находилась не для приверед. Долго я так прожил. По людям особо не скучал – надоели мне люди-то. Они суетятся, говорят что-то, а мне неинтересно, даже раздражение берет… С людьми я не сходился – пришел, спросил, что работать, после деньги получил и ушел. Больше ничего. Возвращался к себе. На деньги на зиму продуктов купишь – муку, сахар, соль – ну, еще водку, как без нее. Огород держал, свиней тоже. Прокормиться хватало. Зимой все снегом засыпало, ко мне никто не шлялся, не тревожил. Был доволен… Но потом успокоился я. Расправилось что-то внутри. Душа помягчела. Начал я при встрече с людьми беседовать. И в Утылву тоже начал ходить – сперва для работы. И даже ночевать оставался. В совхоз меня звали, жилье обещали в Малыхани. Но я не соглашался. А лет пять назад зимой меня вдруг тоска взяла. Тогда снегу много вывалилось, дом до крыши засыпало. Тишина или буран – ветер свистит, а мне хоть волком вой – никто не услышит. Дотерпел я зиму, а весной перебрался в Утылву. Поближе к людям. Плохие они или хорошие – а с ними лучше. Лучше, чем с белыми котами… Нет, это не белая горячка, хотя я уже с собой разговаривал и заговаривался… С тех пор живу здесь.
– Вы ведь на пенсии? По вашим годам выходит так.
– Какая пенсия? Не заработал я. Никогда нигде не числился. На вольных хлебах. Да мне много не надо. Одежонка у меня вся есть – штаны, рубахи, спецовка, плащ, тулуп – а при нужде люди дают. Мне лишь бы крепкое, пусть и старое, а фасон там… Обувку покупать приходится. Так я подрабатываю. Вот сапоги резиновые – не промокают. А за еду вообще не беспокоюсь. Огород на берегу Кляны. Сараюшку сколотил, там свинки. Режу сам. Коза Нюська. Молоко жирное. Летом и зимой на рыбалку. Рыба хорошая. Грибы, ягоды собираю. С голоду не помрешь – и даже очень… И никто надо мной в командирах не стоит, не указывает мне – сам себе хозяин…
– А старуха?
– Когда вернулся я в Пятигорье, то смысл старухиных слов стал доходить – прожить мне оставшуюся жизнь здесь, здесь и помереть суждено. Судьба. Помру, и на старом кладбище похоронят. А что? Я