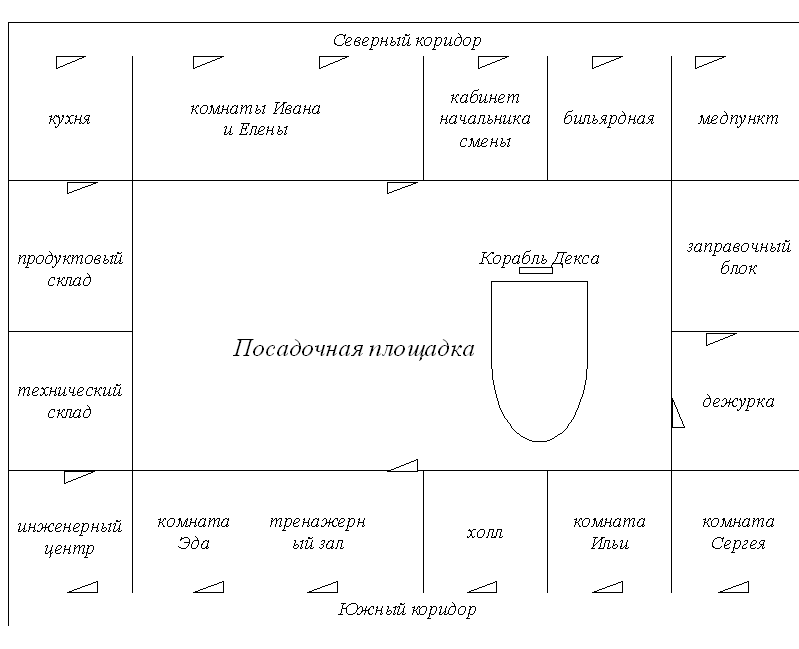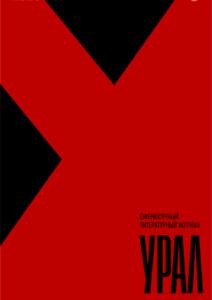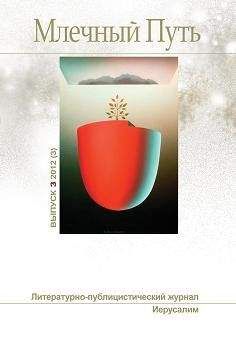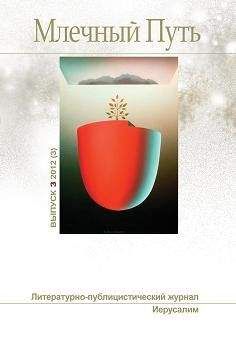но брючки опять коротковаты). Как и во всех предыдущих случаях, Они не вышли из Аккордеона, горделиво стоявшего посреди реки, не пересекли вплавь водное пространство, не перелетели по воздуху. Они
взялись. Секунду назад Их не было, а секунду спустя – стоят. Смотрят. Очень спокойно, вдумчиво, безмятежно взирают на встречающих.
Вот сейчас будет самое важное. Все, что сказано до сих пор, – это необязательная предыстория, анекдотическая преамбула, сон в осеннюю ночь, сказки Брянского леса. Главное – это Встреча.
Не об этом ли мечтали мечтатели, фантазировали фантазеры, писали писатели? Контакт двух миров! Рандеву цивилизаций! Братание братьев по разуму?
Какой должна быть первая фраза? Есть ли вообще протокол подобных встреч? Не заготовлено ли у спичрайтеров нечто приличествующее и для такой – пусть даже совсем гипотетической – возможности?
«Здравствуйте, братья по разуму!»
«Мир вам, пришельцы!»
«Наш дом – ваш дом!»
Глупость какая-то получается. Что ни прикинешь, все либо слащаво-пафосно, либо велеречиво, либо натужно радушно получается, и с непременным оттенком скрытой паранойи. В общем, разговор в дурдоме.
Но что, Что, ЧТО сказать?
И фраза прозвучала. Не просто фраза – вопрос. Вопрос вопросов.
– В Бога веруете? – громко и с надрывом спросил Патриарх.
Молчание. Полная тишина. Абсолютное безмолвие. Все словно перестали дышать.
А затем эту беззвучную гладь прорезал звонкий, заливистый, счастливый смех. Честное слово, я давно не слышал, чтобы так беззаботно, по-детски смеялись.
Смеялись, конечно, Они. Но делали это весьма странно. На фарфоровых их лицах ничего не отражалось, кроме блаженной кротости, а в наших ушах звучал смех. Даже не в ушах – в головах. В моей голове – точно звучал. Как, я уверен, он звучал в головах всех собравшихся. А может, и всех жителей Москвы. Не исключено даже, что в головах всего мира.
Отсмеялись. Затем раздался голос – опять-таки в головах. На чистом русском языке. Во всяком случае, я это слышал на русском. Молдаване – наверное, на молдавском. Таджики – на таджикском. Ну и так далее. Впрочем, поручиться не могу.
– Ну что вы как дети! – сказал голос. – При чем здесь бог? Конечно, не веруем.
Все перекрестились. И я тоже.
– Это какое-то издевательство! – воскликнула Председатель верхней палаты, стоявшая одесную Премьера. – Разве так можно?!
Президент и Премьер молчали.
– Еще раз спрашиваю: в Бога веруете? – прогремел Патриарх.
– Еще раз отвечаем: не веруем, – сказал голос, и оттенок у него был немного иной. Наверное, Эти говорили по очереди. – Странная у нас пошла беседа – веруем, не веруем… Зачем нам верить, если мы просто ЗНАЕМ, что никакого бога нет. Ни у вас, ни у нас, ни где бы то ни было во Вселенной.
Все опять перекрестились. Многократно.
Молчание. Беззвучие. Тишина. Только шорох одежд крестящихся.
– А у шахидов-смертников тоже бога нет? – неожиданно – пожалуй, неожиданно даже для себя самого – спросил Муфтий.
– И евреи-ортодоксы, значит, не верят? – не менее непредвиденно задал вопрос Раввин, который явно не собирался вступать в дискуссию, но после слов Муфтия – пришлось.
– Выходит, мы здесь все лицемеры? – с обидой и вызовом произнес Председатель нижней палаты. Он странным образом оказался между Раввином и Муфтием и потому счел своей обязанностью высказаться.
Президент и Премьер безмолвствовали.
– Не о фанатизме, не о прямой кажимости и не о фарисействе идет речь, – ответил третий голос. – Вопрос всего лишь в здравомыслии.
Патриарх пожевал губами, посмотрел по сторонам – все вокруг стояли с каменными ликами, то ли от страха, то ли от изумления, – и зачем-то спросил в третий раз:
– В Бога нашего, из Которого все, и мы для Него, – веруете?
– Да окститесь, что вы такое говорите! – прозвучали в головах три голоса сразу. Я для себя отметил: ишь ты, какое словечко знают – «окститесь». И еще отметил: какое волшебное трезвучие, эти голоса, – в чистую терцию, музыка! – И мы не верим, и вы не верите. Загляните в себя и признайтесь – не нам, конечно, нам ваши признания не нужны, – себе признайтесь. Вы тоже знаете, что никакого бога нет, но вам удобнее верить, потому что это снимает множество проблем, примиряет со смертью, дает надежду на продолжение бытия, позволяет расправляться с инакомыслящими и воображать себя праведниками. Для вас, который спрашивает, это вообще работа такая – в бога верить. Для вас – ложно понимаемая государственность. – Средний из Этих кивнул в сторону Президента. – Для вас – производственная необходимость. – Крайний справа сделал жест в сторону Премьера. – Для всех остальных – спасительная замена свободы мысли, с которой вы не знали бы, что делать, и суррогат свободы духа, которая вас пугает пуще смерти. Хотите так – ну, пожалуйста. Мы-то здесь при чем? Бог – это…
Трезвучие оборвалось. Музыка пресеклась на секстаккорде. Потому что заговорил Президент.
Даже не заговорил, а разжал губы и негромко, но так, что все услышали, произнес всего два слова:
– Бей их!
– Бей их! – звонко, по-пионерски подхватил Премьер.
– Бей их! – смятенно прошептал Патриарх.
Президент в мгновение ока выхватил из-за спины увесистую каменюку и ловко, спортивно метнул в Этих. И, разумеется, попал. Точнехонько в лоб среднему. Тот в своем костюмчике кулем повалился на асфальт.
У Премьера тоже оказался в руке булыжник. С не меньшей сноровкой он пульнул камень в Этих и угодил в крайнего слева. Тот, как и средний, повалился – без звука, без стона, сохраняя на лице все ту же задумчивую кротость.
Патриарх поднатужился и в свою очередь пустил увесистый голыш, волшебным образом очутившийся в его руке. Не попал. А вот Муфтий попал. И Раввин тоже. И все члены Совбеза оказались на редкость меткими.
Собравшиеся на площади пришли в движение. У всех нашлись камни, и каждый пустил свое орудие в ход. На какое-то время над площадью потемнело – словно галочья стая опустилась с небес. Это летели булыжники, куски щебня, обломки плитняка и шифера. У меня в руке тоже объявился камень. Как? Откуда? Неведомо. Я держал руки за спиной и вдруг ощутил в правой ладони тяжесть – словно кто-то вложил мне туда половинку кирпича. Но ведь за моей спиной НИКОГО НЕ БЫЛО! Я, как уже говорил, стоял в третьем полукольце и был, что называется, крайним. Но это я сейчас могу задумываться и размышлять, а тогда – вообще никакой