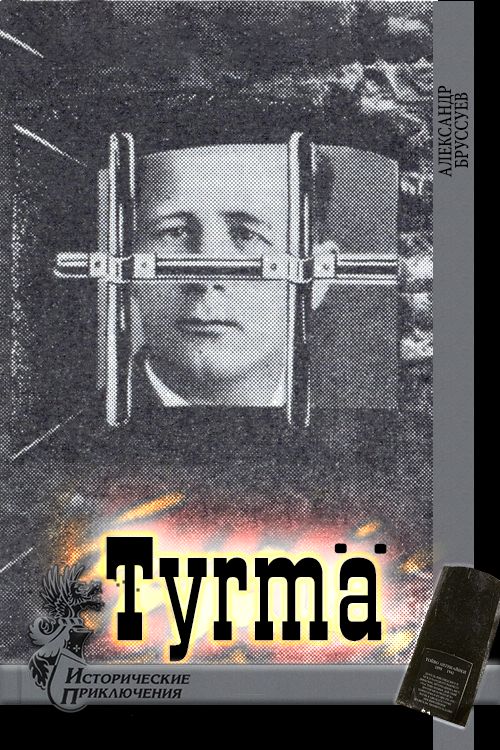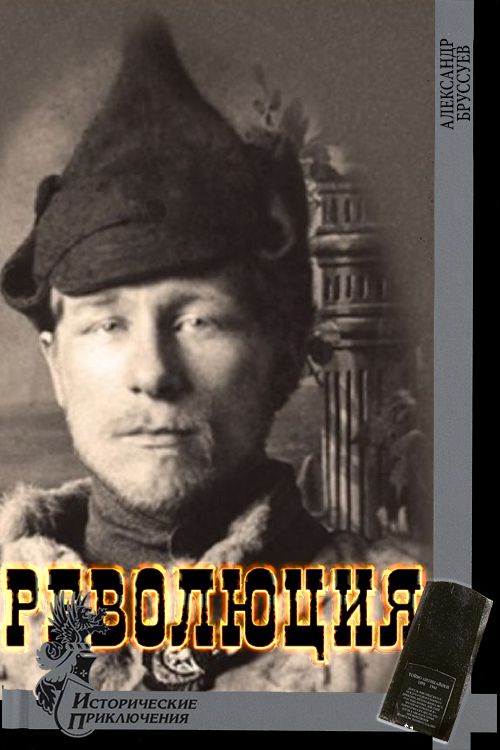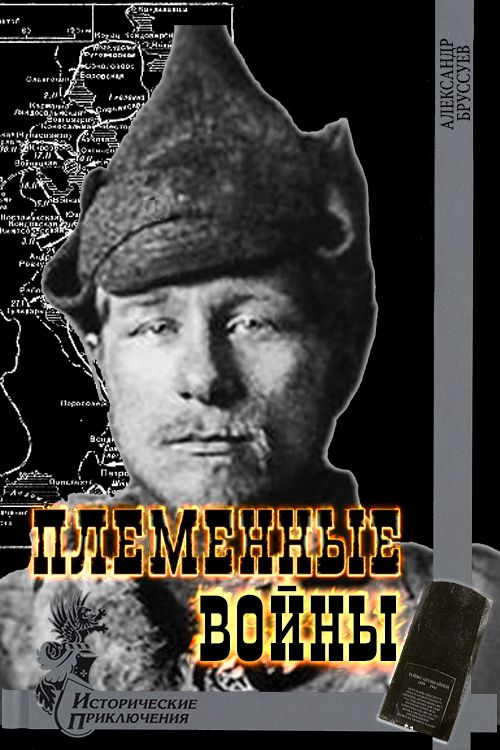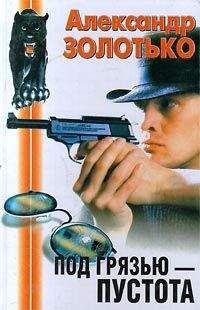этом убедился сам Игги, когда в очередном марше — то ли вперед, то ли назад — совершил роковую тактическую ошибку. Он отстал от своих. Впрочем, можно было посчитать и так: свои его бросили.
Дело-то было плевое. Дело-то было пустяковое. Схватило живот у молодого егеря — нешуточно схватило, никак не отпускало. Или в штаны кидай, или — в туалет типа сортир, призывно расположившийся в одном из дворов, мимо которого и был марш.
— Я - сейчас, — сказал он унтер-офицеру. — Я — минутку. Погодите.
Только кивнул головой командир. Беги, мол. Ну, а сами дальше пошли. Невелика птица — догонит.
Вышел Игги, точнее, его тогда звали совсем другим именем — светским, из сортира в явно улучшенном расположении духа. Огляделся в поисках товарищей, да и рухнул, как подкошенный.
Так бывает, если кто-то недобрый огреет дубинкой сзади по голове. То ли хозяин туалета, то ли просто незнакомый прохожий — человечина с активной жизненной позицией. Сволочь галицкая, одним словом.
А Олонецкие егеря ушли дальше и думать забыли о потере своего бойца. Даже унтер-офицер не вспомнил. Куда там, если снова пришлось стрелять, бежать, окапываться!
Пленили Игги, упаковали в телегу и отправили в тыл. Да не простой тыл, а в австрийский. А вместе с ним несколько десятков жителей этой полузабытой галицкой деревни тоже отправили. Странное дело!
Вообще-то, не очень, чтобы странное. В деревнях как? Разделение в деревнях. Кто богаче, кто зажиточнее, а кто — не очень. Вот эти, которые «не очень», живут своей жизнью и грезят. Мечты их просты: как бы так сделать, чтобы прочие земляки жили хуже, чем они сами. Не нужно, чтобы сами жили лучше, нужно, чтобы вокруг жили хуже. Уж такой деревенский менталитет. Тем более, в Галиции.
Вот и пошла в приграничных с Австрией землях мода — выявлять «русинов», то есть, как бы, русских, ну, и прочих тоже. У кого можно что-то отжать — тот и русин. Даже еврей — тоже русин. Точнее, в этих местах евреев не проживало — жили жиды. А! Без разницы: жид — он завсегда русин!
Вот и попал Игги в обоз с несчастными деревенщинами. Побитые, растерянные и остро надеющиеся, что «господа австрийские офицеры непременно разберутся и отпустят их по домам». Ага, отпустят.
Жиды очень быстро в сложившейся ситуации сориентировались. Они по природной своей сущности очень легко могли отказаться от всего нажитого непосильным трудом за былые годы, лишь бы жизнь и свободу не отбирали. Справедливости не нужно, нужно всего лишь, чтобы их отпустили. А потом уже можно и снова в рост пойти — не в первый раз на этой Земле и в этой Истории.
Нежидам же важна справедливость. И за справедливость эту они готовы были и свои жизни положить, и жизни своих близких. Эх, русины!
По мере приближения к конечной части их маршрута становилось понятно, что господа австрийские офицеры, которые встречались все чаще и чаще, вовсе не склонны в чем-то разбираться. Вот отобрать что-то для себя полезное — это пожалуйста!
Все жиды дорогой куда-то рассосались, а пожитки «русинов», что были впопыхах схвачены в то время, когда их самих схватили, таяли. Игги смотрел по сторонам и на ус наматывал. Имущества у него с собой не было ни грамма, скатку шинели отобрали еще в месте пленения. Поэтому материально он никого не интересовал. А то, что он был солдатом вражеской армии, может быть, даже знающим «военную тайну» — на это всем было глубоко наплевать. Не били — и то ладно!
Ехали они, ехали — и, наконец, приехали. «Что за станция такая — Бологое, иль Каховка? А оттуда говорят: это, братцы, братцы, это»…
Талергоф.
И стоял Талергоф уже с осени 1914 года. И смердел Талергоф, стало быть, уже почти два года. Не вонял, не источал дурностный запах, а именно — смердел. Потому что смерть была в Талергофе, потому что жизни не было в Талергофе. И находились внутри Талергофа одни смерды.
Снаружи, правда, были господа австрийские офицеры.
Талергоф — это поле, некогда поросшее травой и взметнувшимися к небу редкими деревьями. Вокруг колючая проволока и толстые австрийские солдаты, а также установленные на подиумы пулеметы «Максим». А за полем — глубокий овраг, словно земля здесь специально треснула, являя взору ход в саму преисподнюю.
Теперь взору Игги представилось то же поле, только полностью лишенное растительности. Ни травинки, ни былинки. От деревьев и кустов не осталось даже воспоминания. Всюду грязь, какие-то норы, и смерды, чьи тела еле шевелились там и сям. Так обычно копошится что-то в чем-то — это уже в меру воображения.
И еще столбы, установленные через равные промежутки с австрийской педантичностью. А на столбах — останки смердов, те, что еще не успели обвалиться наземь.
«Русины», что сопутствовали Игги, в один голос взвыли. Они были в полном ужасе и отчаянии. Да и сам пленный Олонецкий егерь испытывал точно такие же чувства.
На их голос откуда-то из-за невидимой части поля выдвинулись несколько человек — смерды, но до некоторой степени более живые, нежели те, что ползали в грязи. Одеты они были в совершеннейшие лохмотья, однако глаза их с интересом разглядывали вновь прибывших, явно оценивая и взвешивая. В смысле, полезности, взвешивая, а не в килограммах.
Талергоф — это один из самых первых в мире концлагерей. Самыми вторыми концлагерями сделались финские, возле Выборга и Лаппенратна, открытые в 1918 году. Отличие от немецких времен первой Мировой войны было в том, что они, и первый, и вторые, были приспособлены исключительно для гражданского на тот момент населения.
Талергоф — это лагерь смерти. Питание заключенных в нем узников не предусматривалось, как таковое, вовсе.
Венский вальс, Дунайские волны, культура и эстетика, литература и архитектура — всем этим гордились господа австрийские офицеры, на всем этом они воспитывали своих детей, не преминув возможности показывать всему прочему миру, что они и есть цивилизация. И именно они создали и поддерживали эту фабрику смерти, просуществовавшую вплоть до 1917 года. Именно их заслуга в том, что был такой Талергоф.
Впрочем, был да сплыл. Теперь, через сто лет, там аэродром и даже местные жители, что поблизости, не знают, а если и знают — то не верят, что такое имело место быть. Цивилизация! Ханжеская и безмерно лицемерная просвещенная Европа.
Вброшенные за колючую проволоку новые страдальцы не были даже обысканы. Позднее Игги понял: нет смысла этим заниматься, потому что через