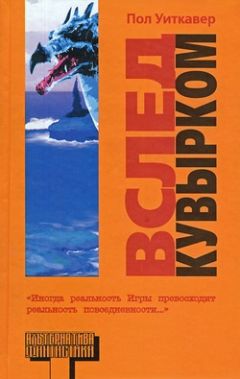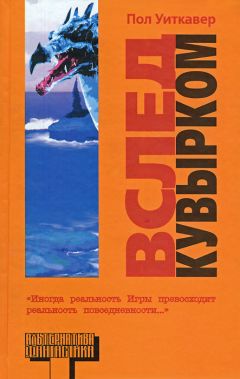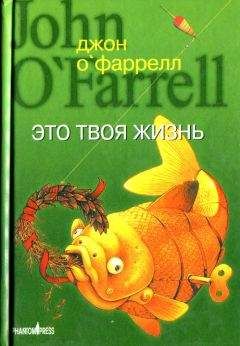Но если Мицар ему больше не нужен? Если и не был нужен никогда?
Что, если он может открыть дверь в Сеть здесь и сейчас?
Сполохи цвета все еще движутся в темноте. И это все, что ему нужно для работы. Он не пытается зафиксировать их в пространстве или в мысленном зрении, не пытается изучать под микроскопом рассудка. Он позволяет им плавать, как они хотят, исчезать и появляться, как пылинкам в солнечном луче. Он дает разуму опустеть, пока не исчезает различие между цветами и силуэтами, плывущими сквозь него, и его собственными мыслями. Пока он сам не начинает плыть с ними, кувыркаясь сквозь темноту, как спутник в космосе, яркой нотой в симфонии движения, ритмической структурой, протянутой сквозь множество масштабов и смыслов. Гармонии сходятся, диссонансы схлестываются, образы появляются, развиваются, исчезают и появляются вновь, как вариации темы. Чеглок не знает, то ли это порядок возникает из хаоса, то ли хаос поглощает порядок, но что бы это ни было, это прекрасно и страшно, будто заглядываешь в глаза самого Шанса. И как легко утонуть в этой глубине, раствориться в этом танце! И это больше, чем метафора. Он чувствует, как это происходит, будто его тело, его сознание становится нематериальным, тает в темноте, сливается с музыкой… будто соблазненные ею его селкомы разбирают тело по атомам.
А почему бы и нет? Он же в нексусе все-таки, там, где субстанция переходит с мыслью в тень, а тень – в субстанцию.
Чеглок ощущает момент панического страха, впрыск адреналина прямо в сердце. Он чувствует, как оно тяжело бьет изнутри в грудь, и это ощущение ударом тока выдергивает его из забытья. Но не разрушает чары до конца. Он скорее как спящий, которому снится, что он бодрствует, и в этом бодрствовании он знает, что спит. Он оказывается в двух мирах сразу, верхом на барьере между Сетью и физической реальностью.
Как тогда, с Мицаром, он воспринимает архитектуру медианета во всей ее сложности, ослепительном блеске, тянущуюся за пределы горизонта… но это зрение – проявление его собственной силы, его собственной воли. Он с трепетом созерцает зрелище селкомов и вирусов, переносящих информацию по сияющим нитям электромагнитных и биотронных сил, мелькающих в Сеть и обратно, словно щепки на белых барашках волн вероятности, видит, как они орудуют строительными блоками материи, жизни, некоторые со слепой предприимчивостью насекомых, другие с явным искусством и разумом. Инстинктивно Чеглок рисует знак Шанса. Лемниската вырезается в темноте, будто нож-трава у него в руке – полузабытый стебель – куда острее, чем вообще может быть. Острый край рисует жемчужно-белое сияние, и в нем видна его рука, как призрачное продолжение, из нее растет клинок травы, будто чтобы нарисовать узор разрезов.
Это сделал он. Он, Чеглок из Вафтинга.
Ощущение торжества бурлит в нем, смывая все остатки неверия. Силы тельпа ему подвластны… и здесь, в этом месте, это означает, что реальность подвластна ему тоже. Он это знает совершенно точно, он сам становится живым нексусом.
Погружая острие нож-травы в сверкающую рану темноты, он распиливает разрез, расширяет. Потом, сбросив рюкзак, он протягивает руку, хватает свободно висящую полу разреза, ощущает ее бархатную прохладу и теплый поток света, как поток крови, а потом решительно берется за нее и тянет. Темнота рвется, словно бумага, открывая рваные края дыры пульсирующего света. Он слишком чист, слишком ярок, чтобы в него смотреть, словно молочная внутренность кучевого облака, диффузно подсвеченная лучами полуденного солнца.
Из ослепительного сияния доносится знакомый писклявый голос.
– Грубо, но неопровержимо действенно. Все же ты сильно растягивал удовольствие.
Чеглок чуть не выпускает из руки нож-траву.
– Мицар? Это в самом деле ты?
– А ты кого ждал? Плюрибуса Унума?
Услышать голос святого Христофора из средоточия света – самое неожиданное из всего, что пока что случилось с Чеглоком. Но это же и самое желанное: значит, прибыла группа эвакуации.
Лишенный тела голос раба-нормала нетерпеливо зовет:
– Твои приятели ждут тебя. Иди посмотри!
Подобрав рюкзак, Чеглок шагает в свет.
Уже почти семь на дворе, когда Джек и Джилли подъезжают на велосипедах к дому на Бейбери-роуд. Они устали, все мышцы ноют, от тел идет пар в душноватом сумеречном воздухе. По дороге они поставили рекорд скорости на велосипедах, уверенные, что дома их ждут неприятности в лице дяди Джимми, и чем дольше они задержатся, тем эти неприятности будут серьезнее. Но вопреки их страхам дядя Джимми не расхаживает по террасе, как лев, готовый прыгнуть. Не вылетает он из дому бурей, когда они спешно слезают с велосипедов. Не видно ни его, ни Эллен, хотя многоцветный «жук» стоит на дорожке, словно машина-клоун, получившая отпуск из цирка.
– Интересно, где они, – говорит Джек.
– Телевизор смотрят или еще что-нибудь, – отвечает Джилли, и тон ее не оставляет сомнения, что это за что-нибудь. – Пошли поставим велики. И потише.
– Не слишком тихо. А то можем случайно на них напороться в разгаре чего-нибудь.
– Трезвая мысль.
Громко болтая о всякой ерунде, они закатывают велосипеды мимо машины дяди Джимми в цоколь дома, где со стуком прислоняют к стенке. И на всякий случай хлопают дверью, выходя.
– Это должно помочь, – говорит Джилли, понизив голос и сбрасывая рюкзак. – Я прямо в душ. Принесешь мне чистое?
– Принесу.
– И чистое полотенце. А вот это захвати с собой.
Она сует ему в руки рюкзак и по прямой летит в душевую кабинку.
Джек топает вверх по лестнице, открывает сетчатую дверь и проходит по веранде. Скользящая дверь широко открыта. Он сбрасывает покрытые коркой песка и грязи кроссовки и засовывает голову в дом.
– Есть кто живой?
Единственный звук – вода, льющаяся внизу в душе. Ощущение пустого дома, которое ни с чем не спутаешь. И это странно, потому что единственное, что в этот день осталось постоянным, так это то, что в семнадцать тридцать они с Джилли должны были оказаться дома. Дядя Джимми отнюдь не помешан на правилах, но он настаивает, чтобы ужинали все вместе, и обычно это происходит примерно сейчас. Так что очень странно отсутствие его и Эллен. Заглянув в кухню, Джек видит кипящий на плите котелок с водой. На кухонном столе – приготовленная к варке кукуруза. Стало быть, Эллен и дядя Джимми где-то рядом. Машина стоит на дорожке – значит, они могли пойти пройтись, на пляж, например. А, нет – на рыночек морепродуктов на той стороне шоссе № 1, чтобы добавить чего-нибудь к кукурузе. Совершив эту дедукцию, Джек улыбается до ушей: ею бы гордился сам Холмс.
Так что есть шанс, что ему выпало несколько минут для себя. Он бегом взлетает по винтовой лестнице, шлепая босыми ногами по металлическим ступеням, в спальню, которая у них с Джилли одна на двоих, пока дядя Джимми здесь. Закинув рюкзак Джилли на верхнюю койку, он со стуком сбрасывает свой на пол. Потом крутит плечами, ежась на холодном ветерке, задирающем выцветшую занавеску на открытом окне, словно пустой рукав платья. Все тело ноет и снаружи, и внутри. Такой избитости он не ощущал с той минуты, как открыл глаза на пляже и увидел стоящую над ним Джилли, ее перекошенное болью и гневом лицо, исхлестанное дождем, брызгами и мелкой песчаной пылью, поднятой ветрами Белль. Тогда впервые Джилли применила свою силу… и он в первый раз применил свою, запомнив отмененную реальность… хотя тогда он не понял, насколько это важно: что память, как его унесло в море – реальная, и уж точно не понял, что это память о том, как он утонул.
Зато теперь он знает, знает все это и больше того. Как-то оно было по-другому, когда он знал, что у него есть богоподобная власть над жизнью и смертью, над самой реальностью. Мысль, что это он, пусть бессознательно, дергает за ниточки, позволяла проще принять неимоверность самого факта и вынести ее. И даже пугающее знание, что он – объект нападения, что это его пытаются вычеркнуть из мира, было приемлемо, поскольку он тогда верил, что его сила вмешается и защитит его… и даже обеспечит ему победу, в конце концов. Чувство было такое, как когда он ехал на волне, до того, как она его сбросила: он цеплялся за что-то большее, чем он сам, за что-то, что при всей своей силе держало его на ладони и не дало бы упасть.
А теперь эта уверенность, эта вера остались в прошлом. Исчезли, когда Джилли одолела его силой не единожды, а много раз, забила его до покорности, хотя, конечно, ничего этого не помнит: для нее реальна только окончательная итерация, в которой сопротивление его рассыпалось, обернулось согласием, помощью. Но он помнит каждый отдельный акт насилия, для него они все реальны, и каждый живет в своей реальности, на малую долю не в фазе с остальными. Все это время, пока они быстро одевались, потом гребли обратно к «Наживке и снастям», потом гнали велики домой изо всей силы, он был как персонаж из мультика, который выбегает за обрыв и бежит дальше вопреки земному тяготению, пока не глянет вниз. И вот этот момент настал – нежеланный и неизбежный.