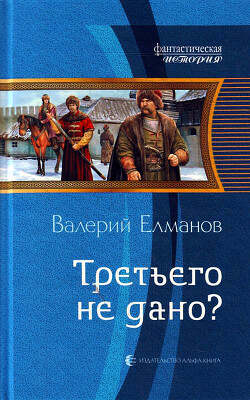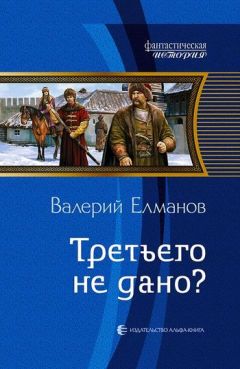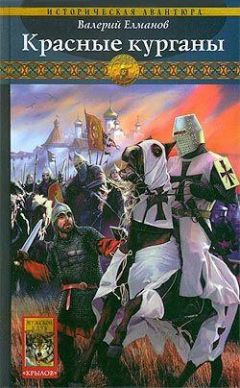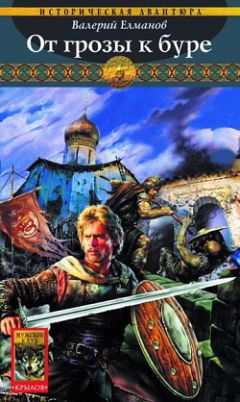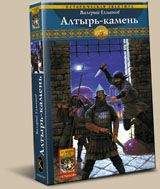У отца Антония в характере имелась одна особенность — он любил делиться с ближними тем из услышанного, что казалось ему забавным. Безумолчное тарахтение этой бабы он посчитал заслуживающим пересказа.
Признаться, я слушал его не очень внимательно, но только до определенного момента, после которого я насторожился.
С одной стороны, ничего интересного. Подумаешь, прислуга вскользь обмолвилась о любовных шашнях молодой дворянской дочки.
Ну и что?
По нынешним временам такие лихие загулы у баб, конечно, редкость, но мне-то до них какое дело?
Все это так, но тут была вскользь произнесена девичья фамилия матери этой самой дочки — Смирная-Отрепьева, а это уже нечто иное.
Я бы сказал, совсем иное.
Уж не о близкой ли родственнице того самого Отрепьева идет речь?
Пришлось подмигнуть тут же все сообразившему Игнашке, который находился рядом, и мы на пару выудили как бы между прочим то, что словоохотливая Липа наговорила Апостолу.
Правда, не все, поскольку на ряд наших вопросов, причем самых главных, отец Антоний отвечать отказался, ибо, рассказав о них, он тем самым нарушит тайну исповеди.
Оказывается, при определенных обстоятельствах некоторые преимущества очень быстро могут перейти в недостатки.
Вот тут-то мне и пригодился отец Кирилл, которого я запустил к Липе якобы попить молочка. Оказывается, вот для чего подкинул мне его патриарх Иов с подачи предвидевшего такую ситуацию Бориса Федоровича.
Краснорожему монаху из Чудова монастыря было положить с прицепом и на тайну исповеди и на прочее.
Дабы побыстрее развязать язык Липе и другим людям из числа местного населения, мы с ним разработали и своеобразный стимул. Дескать, новый владелец, видя разор в хозяйстве и изрядный недостаток дворни, решил вернуть в старый терем некоторых холопов из тех, кто в нем служил ранее, а потом был изгнан.
Эдакое восстановление справедливости.
Так вот, не знает ли она таковых, но обязательно из числа не замеченных в краже господского добра и прочих грязных делишках.
Липа сразу выдвинула кандидатуру некой женщины, которая замечательна во всех отношениях, но оказалась оговорена лихими завистниками, хотя честнее может быть только какая-нибудь святая, а проворнее — водяная мельница, да и то лишь в половодье, поскольку ежели вести речь о лете или осени, то тут эта женщина, пожалуй, потягалась бы за милую душу и с ней, ибо…
Думаю, и без имен понятно, кого она имела в виду.
— Угомонись, чадо неразумное! — рявкнул отец Кирилл. — Лучше поведай, коль ты така святая и проворная, в чем же тогда день назад битый час исповедалась пред отцом Антонием?! А ну, сказывай, яко на исповеди! Мне дозволительно, ибо я — духовного звания, а по части безгрешной жизни и тебя за пояс заткну.
Поначалу женщина замялась, возможно вспомнив, что сей монах еще вчера благим матом орал какую-то непотребщину, после чего, будучи в хлам пьяным, рухнул в сугроб и вдобавок пытался задрать подол двум или трем молодайкам, шедшим мимо этого сугроба к колодцу за водой.
Имелась у него и наглядная памятка о вчерашних событиях — здоровенная шишка на лбу, так как он, невзирая на духовное звание, был изрядно ушиблен коромыслом одной из молодух.
Однако как ни крути, а он все равно оставался монахом, так что Липа, пускай и после некоторого колебания, раскололась — уж больно хотелось ей занять прежнее теплое местечко.
Уже к вечеру я знал несколько пикантных подробностей как о ней самой, так и о прошлых хозяевах, которых у Липы было двое. Первые — некие Шестовы, которые позже, завладев этим селом, перевели сюда услужливую девку из Домнино, ну а уж потом появились и Романовы.
Однако назвать их новыми тоже не годилось, поскольку одновременно они же были и «очень старыми», то есть владели селом до Шестовых.
Получалось, с селом этим происходило нечто очень странное.
Чуть ли не как с царевичем Дмитрием.
И чем дальше, тем интереснее.
Правда, завязку надо было искать не тут, а в Домнино, куда я отправился, прихватив отца Кирилла и Игнашку.
Отец Антоний выехать с нами не мог, поскольку новый священник еще не прибыл, но я в Апостоле и не нуждался — мавр уже сделал свое дело.
В Домнино, с учетом того что я знал, где искать, мне удалось раскопать целый ворох новых подробностей, из которых в моем воображении, словно из цветных стеклышек, понемногу начала составляться мозаичная картинка.
Яркая! Красочная! Сочная!
Поделиться?
Легко.
Итак…
Глава 5
Однажды в лето 7090-е [26]
Не задалось с утра.
То ли перины были чересчур толстыми, то ли дворня перестаралась, так истопив печь, что от нее даже на рассвете, когда Федор поднимался попить студеной водицы, несло не теплом, а жаром.
Словом, встал молодой красавец и бывшая мечта всех московских невест хмурый и невыспавшийся, с больной головой — ощутимо ломило в затылке.
К тому же почти физически давило недоброе предчувствие: «Быть беде». Предчувствиям старший сын боярина Никиты Романовича Захарьина-Юрьева доверял, тем более на сей раз они возникли не на пустом месте, далеко не на пустом.
Морщась от неприятного привкуса во рту, он потянулся к кувшину с холодненьким кваском, настоянном на смородиновом листе, и в это время его правую ногу кто-то мягко толкнул.
Федор вздрогнул от неожиданности.
— Ты еще тут, погань волосатая! — в сердцах гаркнул он и так пнул ногой рыжего кота, столь некстати попытавшегося приласкаться к молодому хозяину, что бедная животина пролетела добрую сажень, после чего, истошно заорав что-то негодующее, опрометью метнулась к двери, чтоб не досталось еще раз.
По пути кот налетел на входившего в опочивальню сына старого хозяина, Никиту Романовича, и мгновенно получил второй пинок.
Возмущенно завопив еще громче, Рыжик кубарем скатился по деревянной лестнице и затаился в самом дальнем углу за еле теплой печью.
— Ишь, отроков мало, так он за бедную животину принялся, — неодобрительно заметил Никита Романович, вступившись за кота, словно забыл, как сам мгновением раньше тоже приложился к «бедной животине».
— Ты о чем, батюшка? — вытаращил на него глаза Федор. И в самом деле, всего он мог ожидать от отца, но такого упрека… — Ей-ей, в сем грехе неповинен! — горячо выпалил он и истово перекрестился на икону Спаса Нерукотворного, висевшую в изголовье постели. — Сколь годков уж и не помышлял о том. А что по младости лет было, в том давно покаялся, и грехи оные мне отпущены.
— Ведаю, яко покаялся. И что отпущены, тож слыхивал, — кивнул Никита Романович. — Тока, по мне, ныне ты б лучше и впрямь с каким ни то отроком сызнова позабавился б, нежели бабу с пузом оставлять. Да еще какую! — взвыл он, не выдержав спокойного тона, и его спрятанная за спиной правая рука тут же вынырнула, а сжимаемая в ней плеть в следующее мгновение ловко и сноровисто принялась гулять по Федору.
Обычно старый боярин так не ярился и к поучению сынов, равно как и своей жены, приступал с холодной головой, а потому бил с умом — и чтоб больно, но в то же время выбирал места, дабы ничего не отбить.
Лишь раз он не сумел себя сдержать, когда застукал своего первенца с дворовым холопом Морошкой, с упоением предававшихся тем запретным утехам, за кои православная церковь отлучала от своего лона.
Тогда двадцатилетнему Федьке досталось изрядно — ребра болели с неделю, а синяки сошли еще позже. Ныне, спустя чуть ли не десяток лет, был второй раз, когда Никита Романович точно так же не разбирался, по какой части тела огреть своего сына.
И еще хорошо, что большинство ударов приходилось по спине да по ребрам — сказывалась многолетняя привычка выбирать для побоев именно эти места. Однако помимо них изрядно досталось и рукам, которыми Федор закрывал голову, и заднице, и ногам.
Упарившись — все ж таки не молодой, да и зрелость тоже давно пролетела, — Никита Романович наконец бросил плеть и взвыл: