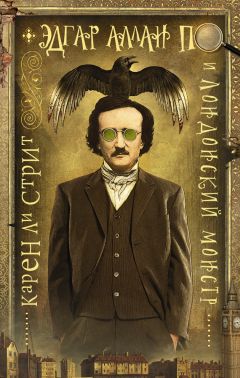Ознакомительная версия.
– Но как они попали к Ринвику Уильямсу? Кому пришло бы в голову, что подобные письма вообще существуют? А бабушка уж тем более никому не сказала бы о них. Удивительно, что она не уничтожила их, хотя именно такое намерение высказывала в письме к моей матери!
Дюпен кивнул.
– Письма, спрятанные в потайном отделении, свидетельствуют, что Элизабет Арнольд опасалась за свою жизнь. Точнее говоря, она опасалась, что Ринвик Уильямс может убить ее. Если Ринвик Уильямс был в Чарльстоне в марте тысяча семьсот девяносто восьмого, что подразумевается в письме к вашей матери, мы можем взять на себя смелость предположить, что смерть Элизабет Арнольд и прибытие Уильямса в Америку взаимосвязаны.
Завтрак в моем желудке как будто разом скис.
– Вы хотите сказать, ее убил Ринвик Уильямс? Но нам говорили, что она умерла от желтой лихорадки.
– Причиной смерти могла быть и болезнь. Но что, если Уильямс присутствовал при этом, а затем ушел, прихватив шкатулку красного дерева вместе со всем содержимым? Когда же он умер, его имущество перешло к сыну. После чего вы получили свое «наследство».
Я вспомнил слова Уильямса и пришел в ужас.
– Двадцатое июля тысяча семьсот девяносто восьмого… – прошептал я.
– Простите, что?
– Уильямс в катакомбах упомянул эту дату, но не потрудился пояснить, к чему.
– Можно предположить, что это дата смерти вашей бабушки, – кивнул Дюпен. – А также день, когда Ринвик Уильямс завладел письмами, которые уличили бы ее в преступлениях, будь она жива. Нам неизвестно, когда Джордж Уильямс узнал, что настоящими преступниками были ваши бабушка с дедом. Может, отец жаловался в семейном кругу на то, что пострадал без вины? Может, он показал украденные у вашей бабушки письма жене? Или, может, Джордж Уильямс узнал об этих письмах только после смерти отца? На эти вопросы вы вряд ли найдете ответ, поскольку Уильямс мертв. Но знать, что теперь вы и ваша семья можете не опасаться его мести, само по себе неплохо.
– Да, – согласился я. – Еще раз благодарю вас от всего сердца. Воистину, Дюпен, эта поездка была более чем неожиданной и во многих отношениях страшной, и я ни на миг не сомневаюсь, что если бы вы не пришли на помощь и не присоединились к моему расследованию, то и меня, и мою семью в Филадельфии попросту постигла бы таинственная смерть.
– Я говорил это уже не раз, но лишь потому, что слова эти истинны: Amicis semper fidelis.
Тут мне сделалось нестерпимо стыдно.
– Вы ведь так и не рассказали, чем кончилась ваша встреча с доктором Фруассаром, а я совсем забыл спросить. Удалось ли доктору узнать что-либо ценное?
– Только то, что Вальдемар вернулся в Париж. Доктору удалось добыть некоторые сведения, которые могут оказаться полезными в будущем, но не сейчас. Вдобавок я с облегчением узнал, что моя репутация не пострадала оттого, что на балу я выставил себя на посмешище. Мадам, оставаясь моим верным другом, убедила всех, что это было частью представления. Правду знает лишь Вальдемар. Не сомневаюсь, что уничтожу его, но сделать это сейчас, в Лондоне, видно, не судьба. – Он щелкнул крышкой своего брегета. – Я должен оставить вас, чтоб дать вам спокойно завершить приготовления к путешествию. Надеюсь, вы не будете возражать, если я не стану провожать вас на борт?
– Вовсе нет.
Дюпен встал. Поднялся и я. Он торжественно пожал мою руку.
– Возможно, вы вновь приедете в Париж и устроите там публичные чтения. Пожалуйста, не забывайте: мой дом – ваш дом.
– Это было бы прекрасно. А может, вы решитесь наведаться на наши берега. В Филадельфии наверняка совершается множество преступлений, достойных вашего таланта.
– Возможно. – Дюпен отворил дверь и шагнул в коридор. – Прощайте, По. Счастливого пути.
Дверь медленно закрылась за ним. Интересно, увижу ли я моего друга вновь? Хотелось бы надеяться, что да…
* * *
Покидать «Аристократическую гостиницу Брауна» после того, как она служила мне домом в течение нескольких недель, оказалось до странности непривычно. Выйдя в фойе, я обнаружил, что строгий портье уже приготовил счет. Я расплатился.
– Очень жаль, что вы покидаете нас раньше, чем собирались, мистер По, но увы – время не ждет. Если ваша супруга больна, вам, конечно же, следует вернуться к ней. Что может быть важнее семьи? От имени «Аристократической гостиницы Брауна» желаю вам счастливого пути и благодарю за то, что остановились у нас.
Вскоре я уже сидел в экипаже и ехал в доки Ост-Индской компании, где должен был взойти на борт «Грампуса». По пути я старался воспрянуть духом, размышляя о том, что совсем скоро отправлюсь обратно в Филадельфию, к своим родным и любимым. Путешествие в Лондон было начато с целью доказать, что дед и бабушка подверглись наглому оговору. На самом же деле я узнал, что вправду являюсь потомком преступников, умерших постыдной смертью. Но самым неприятным открытием оказалось не это. Теперь я твердо знал, что и сам, подобно бабушке, способен убить человека ради безопасности тех, кого люблю.
Эпилог
Филадельфия, ноябрь 1840 г
Дома…
«Грампус» вошел в порт. Я закрыл глаза и окунулся в волны звуков и запахов Филадельфии. Все те шесть недель, что мы пересекали Атлантику, сон не был моим другом. Дни проходили в тревоге о здоровье жены, ночная же тьма возвращала меня в катакомбы, к последней встрече с Джорджем Уильямсом, едва не завершившейся моей, а не его гибелью. Но наконец-то настал первый день сентября, я добрался до нашего верного кирпичного домика и, едва переступив порог, был встречен объятиями жены и ее матери. Все, что случилось со мною за лето в Лондоне, растаяло, точно тень в лучах солнца. Я снова был дома, с теми, кого люблю, и что мне до прошлого, если я не выпущу его со страниц этих инфернальных писем?
Здоровье Сисси с тех пор, как Мадди написала о ее болезни, шло на поправку. Чтобы укрепить его окончательно и заодно улучшить мое плачевное состояние, мы возобновили ежедневные прогулки вдоль реки. Индейцы-делавары называли ее «Ганшованави», что означает «Ревущие воды»; а голландцы – «Скулкилл», то есть «Потайная протока». Река и в самом деле была очень противоречива – здесь мчались могучие стремнины, но и темнели тихие заводи, сгубившие много неосторожных пловцов. Противоречивость реки напоминала меня самого – семья видела лишь одну светлую мою сторону, а темная была надежно спрятана от близких.
Мы наслаждались бабьим летом, продлившимся до середины октября. Обычно Сисси сидела на берегу за шитьем или чтением, пока я плавал, чтобы восстановить силы, а Мадди собирала дикую зелень для ужина. Ради жены я изо всех сил старался избавиться от меланхолии, не отпускавшей с того самого вечера в катакомбах, когда Смерть предпочла мне моего врага. Чуткая к моим настроениям, Сисси не раз предлагала облегчить душу и рассказать ей, что печалит меня, однако я упорно отмалчивался. Зачем тревожить ее рассказами о том, что могло случиться, но не случилось? К тому же, я, честно говоря, опасался, что деяния предков уронят меня в ее глазах. Захочет ли она жить дальше с внуком преступника и мужеубийцы? Я полагал, что нет.
К концу октября задули ветра, по воздуху полетели, точно искры, красные и оранжевые листья. Вскоре деревья тянулись небу, точно костлявые черные пальцы, а после и речные отмели начали замерзать, положив конец нашим идиллическим прогулкам по берегу. Дни становились короче, свет уступал место тьме, и я писал как одержимый, чтобы облегчить душу, превратив терзавшие меня воспоминания в рассказы, которые надеялся продать. Именно в поисках возможностей сделать это я и принял приглашение художника Джона Сартейна[71] посетить вместе с ним выставку в зале Фонда художников восемнадцатого ноября. Сартейн как раз недавно получил заказ на рисунки для первого номера нового журнала Джорджа Грэма, а я питал надежду напечатать там несколько рассказов.
Выставка оказалась замечательным развлечением для Сисси, а мистер Сартейн демонстрировал чудеса обаяния. Собрание картин было весьма внушительным. Прогуливаясь по залам, я наслаждался живописью и вдруг увидел знакомый облик. Сердце замерло. Нет! Не может быть! Прямо на меня смотрели глубокие темно-синие глаза – ее глаза! Ошибиться я не мог – ведь я каждый день рассматривал хранящуюся в жилетном кармане брошь, в точности повторяющую ее глаз и спасшую меня от клинка Уильямса в катакомбах под англиканской часовней.
– Миссис Фонтэн… – прошептал я, шагнув вперед точно зачарованный и встряхнув головой, чтобы сбросить навалившееся оцепенение.
Передо мной была всего лишь картина – портрет в золоченой овальной раме наподобие виньетки. Плечи, бюст, волосы сливались с сумрачным фоном, добавляя к поразительному сходству впечатление светящегося призрака, возникшего из мрака. Я замер перед картиной как вкопанный. В чертах и выражении лица было столько сходства, будто миссис Ровена Фонтэн оказалась здесь рядом, последовав за мной из убогого домишки в Кэмден-таун в филадельфийский зал Фонда художников.
Ознакомительная версия.