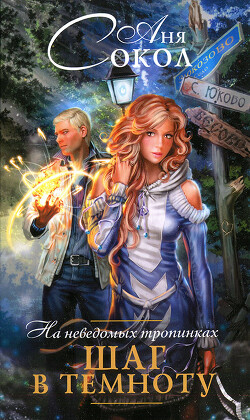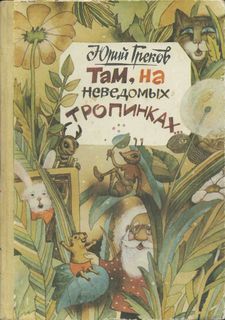С завтраком я справилась, как и с обедом. Лестницу приняла, согласившись с плотником, пусть объект готов к эксплуатации, но далек от совершенства. Я с трудом представляла, что привлекает его в полубезумной старухе, выглядевшей лет на пятнадцать старше него, тогда как в действительности он опережал Марью Николаевну чуть ли не на столетие. Но особых причин мешать общению не видела и, оставив стариков в гостиной, поднялась по пахнущей деревом лестнице на чердак.
И первым делом громко чихнула. За три года я заглядывала сюда раз пять от силы. Пыль, грязь, рухлядь, которую я бы выкинула не глядя, всем скопом, если бы не бабка. Я обогнула пузатый комод, в котором не хватало ящика, прошла мимо нескольких разномастных лыж, картонных коробок, на которых стоял патефон с ручкой, такому место в музее. Справа — что-то похожее на гигантские пяльцы или ткацкий станок, между деревянными рейками зажат пыльный кусок ткани с незаконченным рисунком. Ржавая лопата, грабли со сломанным черенком, прочий мусор. А вот это я уже где-то видела, жаль, не помню где. Туалетный столик на тонких ножках. Я провела рукой по деревянной поверхности, на пальцах остался черный след. Многолетняя пыль покрывала все, чем заставили столешницу. Две пол-литровые банки с высохшим неопределяемым содержимым, старые журналы мод, потрепанные и с загнутыми краями, коробка, в которой что-то звякнуло. Попыталась сдуть пыль, закашлялась, поднявшееся облако осело в носу. Центральная часть столика поднималась, обнажая гладкую поверхность зеркала. В свете, падающем сквозь большое, но давно не мытое окно, я без труда разглядела свою круглую физиономию, торчащие в живописном беспорядке волосы, на правой щеке — серое смазанное пятно, на футболке — пыльные отпечатки, в голове — паутина. Золушка во плоти, гороха, который надо перебирать, не хватает. Зеркало было целым, это радовало, так как я уже знала, куда поставлю раритет, после того как приведу в порядок. Бабкина мания оказалась заразной. Я выдвинула правый ящик, внутри лежала крышка от банки, в которой раньше хранилось что-то липкое, так как отодрать кругляшок от дерева не удалось. В левом — ворох бумаг. Несколько писем, перевязанных бечевкой, пожелтевшие конверты, адрес, написанный красными чернилами крупными круглыми буквами. Я отложила их в сторону, пусть чужая жизнь останется чужой, хотя название населенного пункта запомнилось — Итварь. Наверное, из-за вычурной заглавной «И». Остальные бумажки валялись как попало: список покупок, мятый чек из магазина, листы отрывного календаря за 1973 год, желтые обрывки газетных страниц с жирными буквами, страницы какой-то книги, напечатанные мелким шрифтом, чистые листы в клетку, карандаш. Под одну из ножек была подложена согнутая в несколько раз картонка, столик хромал.
Я расчистила путь к лестнице, чуть сдвинула комод, переставила на другую сторону вешалку на многочисленных, напоминающих щупальца осьминога, ножках, подняла и отнесла в угол пустой футляр от швейной машинки и два жестких коричневых чемодана, уронив по пути деревянный паровозик, что прятался за ними.
— Вот вам еще работа, — обрадовала я Бориса, когда столик оказался в гостиной.
Мужчина крякнул и обошел находку по кругу. Надо сказать, при нормальном освещении столик выглядел совсем жалко. Борис нажал на качающийся край, выдвинул ящик, одного медного кольца не хватало. Сколы, царапины, следы мух и даже круглые отпечатки банок.
— Сможете привести в порядок? — с сомнением спросила я, вытирая руки полотенцем.
— Легко. — Он подмигнул бабке, бросающей взгляды на чердак, как разбойник на пещеру Али-Бабы, будто я не сломанную мебель притащила, а золото и бриллианты. — Могу даже омолодить. Крекс — фекс — пекс, — он взмахнул руками, хотя к его седой шевелюре больше бы подошло трах-тибидох-тибидох и выдернутый волосок. — Покрасить или ошкурим под дерево?
— Покрасить, — присматриваясь к находке, решила я, — в белый, как и было, вот здесь и здесь коричневый орнамент, надо восстановить.
— Сделаем, — пообещал он, и я поняла, что это займет как минимум неделю.
Не прошло и нескольких минут, как Марья Николаевна зарылась в хлам с чердака, и Бориса прихватила за компанию. Это и к лучшему, так как бабка не видела грани между прошлым и настоящим.
Меня ждали душ и подвал. Собрание, будь оно неладно.
Знак вспыхнул. В моем воображении он горел так же ярко, как тогда, но в реальность прорывались лишь мягкие сполохи. Опоры стежки собрались. Все сидели по домам, каждый в своем подвале, каждый под своим знаком, и тем не менее здесь и сейчас мы были вместе. Взяли по кусочку от каждого подземелья и собрали один общий зал. Как круглый пазл, из центра которого разбегались по полу неглубокие лучи — желоба, там, где они сходились, с привычной учтивой улыбкой на лице стоял Ефим. Края каждого кусочка едва заметно колыхались, не позволяя до конца поверить в возникшую иллюзию семигранного каменного зала, состоящего из таких разных и таких одинаковых треугольников, словно кусочков разрезанного, но еще не разложенного по тарелкам торта. Семь знаков, семь граней, семь опор, семь кусочков подвала.
Раньше опор было пять, но с каждой новой добавлялась и новая грань. И не только к подвалу. Знак на руке бабки, имевший форму пятигранника, менялся, сперва на шести, а теперь и на семигранник. Семь опор — семь степеней защиты.
Я сидела в мягком плюшевом кресле, за спиной переливался ромбик на ножках. Напротив расположились сразу двое. Семеныч, на то ли застопоренном, то ли сломанном кресле-качалке, с налитой теплым светом буквой «Е» за спиной. Рядом на кушетке с высокой спинкой небрежно развалился Константин, с лежачим интегралом над головой.
Справа от меня мягко улыбалась сваара Тина, ее размашистое «Z» под потолком и края полок с соленьями. Соседом слева оказался Алексий, в очках и на вполне современном кожаном кресле на колесиках на фоне стилизованного глаза, часть рисунка на полу закрывал ковер. Самодовольный и такой же мохнобровый Арсений на жутко неудобном, но монументальном на вид табурете с толстенными ножками. Его знак я видела впервые, перевернутая вверх ногами восьмерка, в нижней части меньше, чем в верхней. Сбоку от бывшего водителя и его монстра-табурета стоял сильно разросшийся фикус. И последний на нашем собрании, слева между фениксом и целителем, крестик из детской игры в «крестики — нолики», с парой дополнительных черточек на концах одного отрезка, без стула, без кресла, дивана, табурета в воздухе висел коричневый кожаный плащ, наполненный черным дымом, из-под капюшона на нас смотрели алые угли глаз. Проклятый. Другой, незнакомый, но такой же чуждый и опасный. Его подвал был сложен из гладких камней, и в стыки меж ними вбиты крючки-гвозди, некоторые пустовали, на других что-то висело, ленточка, брелок, наручные часы, расческа и даже пионерский галстук.
— Михар, — представился бес, заметив, что я его рассматриваю. Голос как из глубокой трубы. У дыма не было ни рта, ни языка, ни связок, ни горла, но в любой момент он мог одолжить ваши.
— Ольга, — выдавила я из себя.
— Остальных представлять не нужно? — поинтересовался старик.
Ответом ему было общее молчание. Ефим вдруг с улыбкой сделал шаг в мой «кусок торта», поклонился и занял соседнее кресло, которое выходило за дрожащие границы пазла. Его это не смущало, думаю, он прекрасно видел всех собравшихся. Уверена, что перед любым другим, выйди он за границу, были бы лишь стены подвала.
— Девчонка сегодня в фаворитках, — хмыкнул целитель.
— Что? — спросила я.
— Не обращай внимания, — ответила сваара, — Константин привык, что хранитель присутствует на собраниях из его дома.
— И ни разу из твоего, — огрызнулся он.
— Хватит, — прервал их феникс, — никто не заставляет вас любить друг друга, сделаем дело и разойдемся.
— Тогда давайте быстрее, — внес предложение Сенька, чем заслужил предупреждающий взгляд ведьмака.
— Наша стежка теперь защищена от безвременья настолько, насколько возможно, — задумчиво проговорил старик, — пора подумать и о более банальной защите, к примеру от хищников — двуногих и четвероногих.