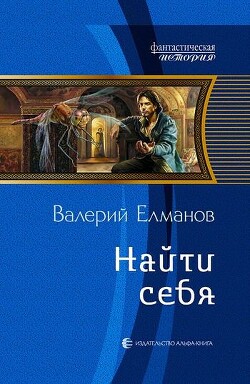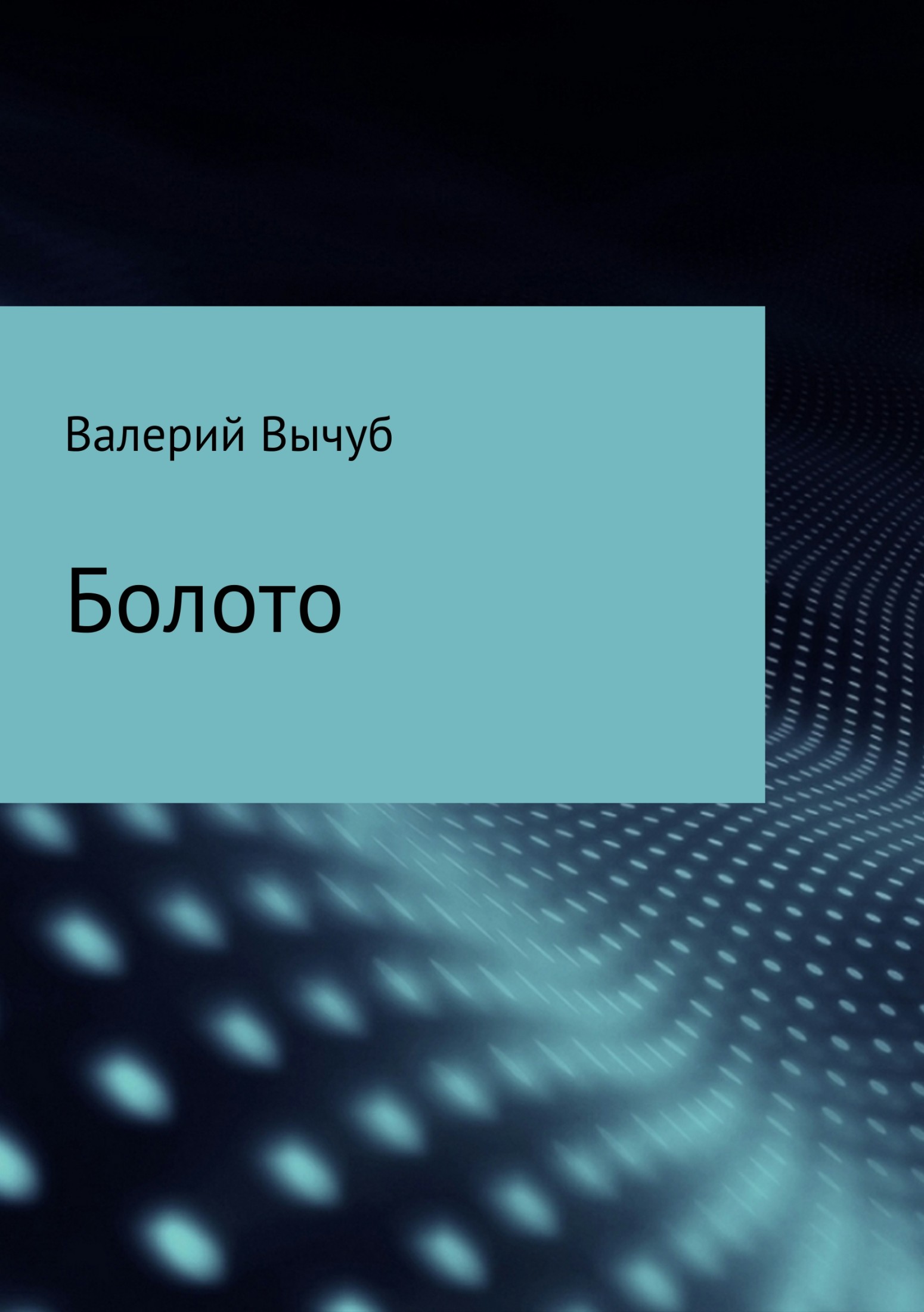– Лучше заслуживать, не получая, чем получать – не заслуживая, – добавил я.
– Вот-вот. Не то что некие, коим то землицы мало, то сельцо соседнее жаждется прирезать, то лужки заполучить.
– Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет, – заметил я. – Мне всегда казалось, что я стою куда дороже сельца и лужков.
Свита молчала. Взгляды, кидаемые исподлобья некоторыми ее представителями, мне почему-то не показались дружелюбными, хотя я вроде бы у них ничего не отнял и на их села и новые лужки не претендовал.
– Не по нраву им твое бескорыстие, – пояснил Годунов, беря меня под руку и отводя в сторонку. – Опаска берет, что вдругорядь, егда сызнова просить станут, я опять про тебя напомню, да ничего и не дам. Но я не о том. Покамест о праздничных столах хлопочут, ты укажи мне того стервеца, кой в личине моего сына хаживал.
– А зачем, государь? Он это по моей команде делал, с меня и спрос, – вступился я за парня.
– Да не боись, – усмехнулся Борис Федорович. – Для него же лучшее, покамест я добрый. Кто он таков, я и в Москве узнать могу, но мне тута на него полюбоваться хотца.
«А ведь и впрямь узнает, – мелькнула мысль. – Коли стукач донес про подставу, то кто именно играл роль Федора, он точно знает, а даже если и неточно, то выведать это не столь сложно. Годунов же сейчас и впрямь добрый, так что лучше рискнуть».
– Но ты и впрямь, государь, его не накажешь? – на всякий пожарный уточнил я.
– Даже награжу, – твердо пообещал Борис Федорович. – Вот Ваньке Чемоданову от меня достанется на орехи. Не признать в каком-то холопе моего сына! Куда токмо глаза его глядели? Никак вовсе на старости лет ослеп.
– Ради такого светлого дня, может, помилуешь? – высказал я осторожное пожелание.
Почему-то мне вдруг стало жаль старого зануду. По всему видать – предан он царевичу не за страх, а за совесть и готов голову на плаху положить, лишь бы с его питомцем ничего не случилось. Глуп, конечно, что есть, то есть. Но, с другой стороны, не такая у него должность, чтобы отсутствие мозгов принесло вред. К тому же неизвестно, кого он приставит взамен. Как бы хуже не вышло.
– Сказал же, слеп он стал, а слепцу убогому подле царевича делать нечего, – раздраженно заметил Годунов.
– Слеп… – протянул я задумчиво. – А давай так, государь. Ты-то зрячий, вот и попробуй отличить царевича от моего человечка.
Борис Федорович посмотрел на меня, как на идиота. Речь его в полной мере соответствовала взгляду.
– Ты в своем уме, княж-фрязин? – ласково переспросил он. – Али ты мыслишь, будто я впрямь свово Феденьку могу не признать? Да я его из тысяч и тысяч…
– Вот когда признаешь, тогда и посмеешься надо мной, – невозмутимо прервал я его. – Только с одним непременным условием: глядеть на него ты будешь точно в тех же условиях, что и Чемоданов. – И сразу пояснил: – Мы ведь старались, чтобы он при свете дня ему на глаза не показывался. Да и лик свой он ему тоже не выказывал. Когда дядька царевича появлялся в дверях, мой Емеля всегда успевал спиной повернуться, да так со спины ему и отвечал, а потом сразу обратно отправлял, мол, недосуг ему.
– Да по мне, хошь в полумраке, хошь со спины. Я его всяко признаю! – не на шутку разгорячился Годунов.
– Тогда дозволь, царь-батюшка, я их предупрежу, чтоб в одинаковых одеждах были, да в схожих комнатах нас с тобой ожидали. Я за Чемоданова буду, а ты просто знай себе смотри на его спину да опознавай.
Борис Федорович призадумался.
– Но чтоб и голос подал хошь на чуток, – потребовал он.
Опаньки! А ведь минуту назад клялся и божился, что ему для опознания и мизинца хватит. Ну что ж… Ладно, выручай, Емеля, старого слугу. Да и себя заодно покажи. Конечно, с голосом ему потяжелее придется, хотя если призадуматься, то и его можно обернуть себе на пользу… А мизансцена у нас будет такая… Или нет, лучше…
«Ага, так и сделаем», – вдруг осенило меня, и я еле сдержал улыбку, рвущуюся наружу. Мой кожевенник, конечно, не дядя Костя с его юродивым Мавродием, но тоже не лыком шит и, если не перепугается – все-таки выйдет на сцену в присутствии самого царя, мы еще поглядим, как там с опознанием.
– Будет тебе голос, государь, – твердо пообещал я. – Оба его подадут, когда отвечать мне станут…
И они его подали.
В первой светелке в ответ на мою просьбу спуститься да потрапезничать, ибо время давно прошло, паренек в нарядной ферязи, стоящий у стола к нам спиной и сосредоточенно разглядывающий карту, небрежно отмахнулся и негромко произнес:
– Приду я, приду. Мне еще часец дробный, дабы разобрать тут кой что, и непременно приду.
После чего паренек, по-прежнему пребывая в задумчивости, не поднимая головы, плавно двинулся к небольшому оконцу.
– Ну я тогда повелю, чтоб разогрели все да на стол накрыли, – заметил я.
– Повели, повели, – машинально кивнул стоящий у окна и сосредоточенно потер переносицу.
– И чего тут мыслить, – недовольно отозвался царь и насмешливо посмотрел на меня. – Легка твоя загадка: он и есть сынок мой Феденька.
– А ты погоди спешить, государь, – осадил я его и шагнул к другой комнате.
В ней, когда мы открыли дверь туда, нарядно одетый юноша сосредоточенно собирал с пола рассыпавшиеся в беспорядке листы.
– Никак случилось что? – Я с нарочитым испугом всплеснул руками.
– Да нет, все хорошо, – досадливо отмахнулся тот.
– А трапезничать когда ж тебя ждать? – поинтересовался я.
– Вот подберу листы и мигом примчу, – заверил юноша. – А где ж у меня?.. – Он, не договорив, поднял голову, внимательно осмотрел противоположную от нас стену, после чего опрометью кинулся к ней и извлек из-под лавки последний лист, завалившийся под ножку.
Я закрыл дверь и вопросительно уставился на Годунова. Тот некоторое время озадаченно молчал, но затем на его губах появилась ироничная усмешка.
Значит, вычислил. Ну и ладно.
Затянувшуюся паузу прервал кто-то из свиты, но был так свирепо обруган, что сразу же испарился.
– Эва, кого обмануть решил, – насмешливо хмыкнул Борис Федорович, медленно двинулся в сторону выхода, но почти сразу остановился и полюбопытствовал: – А что ж они-то не выходят? Вроде как кончилось все.
– Ждут, когда я им скажу, что все закончилось, – пояснил я.
– А ты ждешь, когда я скажу, в какой светелке был мой сын, – в тон мне продолжил Годунов и мотнул головой в сторону ближайшей двери.
– В первой из светелок? – на всякий случай уточнил я.
Борис Федорович с усмешкой заметил:
– Всем твой ратник хорош, да токмо мой сын куда степеннее. А переносицу тереть, егда чтой-то не выходит, то и вовсе родовое. У меня оно тако ж случается.
Я пожал плечами и шагнул к ближайшей двери:
– Все, Емеля, – громко сказал я, открыв ее. – Давай-ка покажись государю при свете, а то он мне на слово не поверит. – И двинулся к другой двери. – Федор Борисович, там батюшка тебя кличет…
Годунов застыл, растерянно уставившись на меня, затем на появившегося Емелю, потом перевел взгляд на робко застывшего в дверном проеме царевича.
– Да-а, – протянул он, наконец убедившись, что и впрямь ошибся. – А-а-а… ты что ж, добрый молодец, тоже такой обычай имеешь промеж бровей тереть?
Емеля молчал.
– Никак язык отсох? – прищурился царь, постепенно вновь приходя в доброе расположение духа.
Столь явно выказанная боязливость несколько компенсировала наглость, с которой недавний кожевенник столь мастерски спародировал его родного сына, не постеснявшись позаимствовать у последнего не только одежду, но и любимые жесты.
– Ась? – улыбнулся он с некоторой натугой. – Али ты его проглотил? – И повернулся ко мне. – А может, он без дозволения воеводы и слово лишнее боится молвить? Что скажешь, князь Феликс Константинович?
– Робеет он. А жест сей подсказан ему мною, – ответил я за Емелю.
– И яко же у тебя токмо духу хватило, дабы насмелиться облачиться в царевы одежи и выступать, яко он? – укоризненно покачал головой царь.