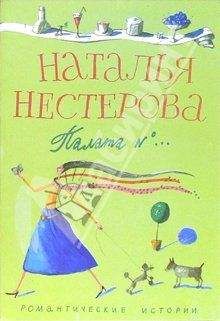Аделаида Фортель
Жизнь собачья вурдалачья
Черт дернул Малахитова в тот вечер изменить своим привычкам и вместо того, чтобы остаться дома в любимом кресле, понесло его в осеннюю слякоть под моросящий дождь. За пивом поперся, старый дурак. Ему, видите ли, надоели приступы утреннего похмелья. Двадцать лет не мешали, а тут надоели. Тьфу! Дмитрий Дормидонтович стер плевок с зеркала рукавом и с тревогой посмотрел на свое отражение. Под скулой отливала синевой рваная рана, и вся шея ныла, словно его черти в хомут запрягали и всю ночь воду возили. И ладно бы собака укусила. Тогда бы Малахитов пошел в поликлинику на уколы от бешенства. Но с укусом, полученным от алкоголика, пусть и незнакомого, к доктору не ходят. И напрасно! А вдруг алкоголик этот был заразным. И ведь он, в отличие от собаки, мог болеть и бешенством, и чем-нибудь похуже. СПИДом, например. Интересно, передается ли СПИД через укусы? Кажется, нет. Кажется, через укусы только вампиризм передается. Ну, нет. Тот мужик на вампира не походил. Никакой смертельной бледности и длинного плаща. Глаза, правда, были у него красные. Ну, это у кого не бывает. А в остальном — обыкновенный чмошный алкаш, испитый до синевы и вертлявый. К тому же вампиры клыками кусаются, Малахитов сто раз в кино видел. И оставляют очень характерные следы: глубокие дырочки. А его укус хоть и был достаточно глубоким, но имел форму подковы, как если бы его цапнула лошадь, но только очень маленькая. Дмитрий Дормидонтович опасливо дотронулся до раны и получил в ответ очередь пульсирующей боли. Бляха-муха! Может, йодом смазать? Где-то тут пузырек был. И ведь чувствовал же, чувствовал! Малахитов, как только за этим гадом очередь занял, так и забеспокоился, не карманник ли? Даже деньги из кармана вытащил и в кулаке зажал. Уж больно подозрительный был мужик. Крутился постоянно и по сторонам озирался, словно ждал кого-то. И искоса на Малахитова поглядывал. А потом предложил поменяться очередью. Дмитрий Дормидонтович, наивная душа, удивился, конечно, но поменялся с радостью. Неохота ему было под дождем мокнуть. Повернулся спиной к этому психу и тотчас о нем позабыл. Очередь продвигалась быстро. Мужики один за другим протягивали в окошко деньги и пустую тару, получали пиво и уходили в сумерки. И когда Малахитов оказался перед окошком, отдал три пустые бутылки и деньги, то есть как раз в тот момент, когда он совершенно не ожидал подвохов, этот гад на него набросился. Со спины. Рванул шарф и вцепился зубами в шею.
Первой реакцией Дмитрия Дормидонтовича было удивление. Его еще ни разу мужики не кусали. Бить били, а кусаться это бабская прерогатива. Потом, как ни странно, ему стало неловко за немытую шею. И лишь после он почувствовал страшную боль и такой страх, что скрутило живот. Малахитов вцепился в сальные вихры пьянчуги, пытаясь оторвать его от себя. Но нападавший оказался неожиданно силен, присосался накрепко. Тогда Малахитов бухнулся на спину, отчаянно завозился и замолотил руками, сумел перевернуться и всем весом придавил нападавшего к земле. Прижал за скулу его мерзкую синюю рожу с такой силой, что мужик захрипел и обсопливился. Малахитов от отвращения невольно ослабил хватку, мужик тотчас вывернулся и бросился прочь с невероятной прытью, словно по воздуху улетел.
Вся схватка заняла не более десяти секунд. И когда удивленная продавщица высунулась из окошка, посмотреть, куда девался только что все оплативший клиент, то увидела лишь удаляющуюся спину Малахитова, который от пережитого шока позабыл, зачем пришел и, пошатываясь, направился к дому.
В общем, вернулся домой Дмитрий Дормидонтович на полном автопилоте, с растрепанными нервами, без пива, денег и даже пустых бутылок. О чем утром в первую очередь и пожалел. И опохмелиться нечем, и не на что. А тут еще этот укус разболелся, словно гнилой зуб. Так и дергает. Вся шея огнем горит. Ах, ты, мать-перемать! Подлечиться бы… Как лечиться, Малахитов знал. Он добрел до телефона и вызвал скорую помощь для всей окрестности, самогонщика Иван Палыча.
* * *
— Неважно выглядишь, Митрюха, — заявил с порога Палыч.
— На себя посмотри, — огрызнулся Малахитов, пропуская приятеля в квартиру. — Тоже мне, герой-любовник, роковой красавец.
— А я и не говорю, что красавец, — вывести Ивана из равновесия было почти невозможно. — Но только у тебя раньше цвет лица был, а сейчас нету. Ты заболел, что ли, Мить?
— Да нет, вроде. Не заболел пока. Укусили меня.
— А-а-а… Эт бывает. Бродячая собака-то была, или с хозяином?
— Хозяин это был без собаки, — неохотно пояснил Малахитов.
— Это как?
— Да, никак. Ты меня, Палыч, не слушай. Пошутил я. Сердце у меня сегодня пошаливает.
— О, брат! С сердцем шутки плохи. Сердце беречь надо. Давай-ка я тебя подлечу.
Иван Палыч хозяйственно расстелил на столе газетку, выложил на нее пару изможденных огурцов, чесночную головку и выставил пузырь с самогоном.
— Самогон гонит хворь, лучше феервекса. А чеснок от всех болезней доктора прописывают. Ну, давай по первой.
Малахитов махнул первую, и тут случилось необъяснимое — впервые в жизни самогон не удержался в желудке, а попер обратно и выплеснулся на пол.
— Ишь ты, как тебя, Митя, разбирает! — встревожился Иван. — Видать, на голодный желудок не пошла. Ты сперва перекуси. На вот, чеснока с хлебушком.
Но чеснок «не пошел» еще больше. Дмитрий Дормидонтович его даже в руки взять не смог. При одной мысли об этом на него накатила такая волна тошноты, что он чуть сознание не потерял. Качнулся и едва успел за стол удержаться. Иван вскочил с места, опрокидывая стаканы, подхватил Малахитова под руки и довел до кровати.
— Приляг, Мить, приляг, — причитал он. — Ах ты, господи, напасть какая! Может, огурчик солененький тебе надо, а? Когда моя Наташка беременная была, ее тоже ото всего тошнило. Только огурчики и спасали.
Малахитов открыл рот, возразить, что не беременный же он, в самом деле, и тут же расторопный Иван впихнул ему огурец. Господи боже, что тут началось! Малахитова рвало с такой нечеловеческой силой, что, казалось, все внутренности вывернутся. На лбу выступил холодный пот, на висках вздулись вены, чуть не лопнули. Он даже подумал, что это все, конец. И никакого страха эта мысль не вызвала, только желание — скорей бы… Но рвота так же внезапно кончилась. Малахитов обессилено опрокинулся на кровать и застонал.
— Елки-палки! Мить, а ты не помер бы… Скорую тебе надо. Срочно надо скорую. Я пойду, вызову. А ты здесь побудь, никуда не уходи. Сейчас я, быстренько. Скорую вызову и приду.
Если бы Малахитов мог повернуть голову, он увидел бы, как Палыч суетливо сгребает в авоську чеснок и оставшийся огурчик, ставит туда же бутылку и бочком к выходу.
— Слышишь, Митя! Никуда не уходи. Сейчас скорая приедет, понял? — прошипел Иван уже из-за полу прикрытой двери и, старясь не шуметь, спешно покинул квартиру.
Скорой Малахитов так и не дождался. Сам к вечеру оклемался. Но ни есть, ни пить он так больше и не мог, ото всего воротило. И если раньше в алкогольном угаре дни пролетали, словно ласточки, то сейчас каждый час тянулся бесконечно долго. И, вдобавок, не спалось. А вот уж чего-чего, а этого с ним просто никогда не случалось. Всю жизнь Малахитов засыпал мгновенно, стоило только глаза закрыть. Не мешали ему ни шумные застолья, ни пылкие женщины, ни грохот колес, ни яркий свет. Об этой его особенности ходило немало актерских баек. Например, как он, исполняя партию Олоферна, в заключительной сцене прилег, как положено, в шатре и крепко заснул. И тонкое сопрано Юдифи, объясняющее зрителям, как и зачем она убила Олоферна, прозвучало под аккомпанемент мощного малахитовского храпа. Трагедия превратилась в фарс, но зрители были довольны.
А теперь ему не спалось, хоть ты тресни. Сутки напролет просиживал он на кровати и, почти не мигая, смотрел в окно. И, что странно, никакой усталости не чувствовал. Правда, нервы стали ни к черту. Дверной звонок вызывал учащенное сердцебиение, а от тяжелых шагов Антонины Карлович по коридору хотелось забиться под кровать. Грохнет ли соседка на кухне кастрюлями, вякнет ли кот — у Малахитова душа в пятки ухается. В общем, чувствовал он себя, как герой кошмаров Хичкока. Вроде ничего и не происходит, а жить невозможно. Уже через неделю он напоминал списанный театральный костюм. Высох, облез и потускнел. То, что не смогли стереть годы и застарелый алкоголизм, новая болезнь уничтожила за считанные дни. От его округлой «оперной» фигуры не осталось и следа, волосы поредели, с лица слиняли все краски. Из зеркала на него теперь печально смотрела восковая копия Дмитрия Дормидонтовича Малахитова с заострившимся носом и оловянными пуговицами вместо глаз. И что это за напасть такая? Как от нее лечиться? Не понятно.
* * *
Как известно, хочешь что-либо узнать — узнаешь. Сидел как-то ночью Дмитрий Дормидонтович на своей кровати и по обыкновению в окно таращился. И то ли задремал наконец и пригрезилось, то ли на самом деле промелькнула мимо его окна тень, слишком большая, чтобы быть птицей. Не успел Малахитов удивиться, как она появилась вновь, закрыла собой и полную луну, и крыши домов, сгустилась, и материализовался из нее тот самый красноглазый алкаш. Он зацепился пальцами за открытую форточку, сыто чмокнул и доброжелательно уставился на Малахитова.