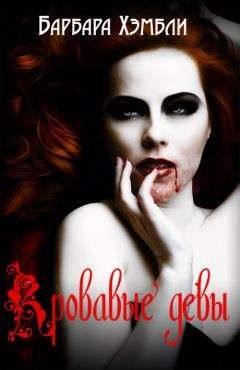— Или в Китае? Вене? Боснии? Месопотамии?
— Кто рассказал вам о Месопотамии? — с усмешкой спросил Эшер, и Разумовский погрозил ему пальцем.
— Никому не под силу запомнить все лица, Джейми. Ни вам, ни им. Насколько мне известно, все эти славные парни из немецкого посольства служат здесь со времен царя Александра — или Екатерины Великой, если уж на то пошло. А теперь расскажите, чем я могу помочь в ваших «личных делах», которые погнали вас за тысячу восемьсот миль от прекрасной мадам Эшер в то самое время, когда Германия спит и видит завоевание Марокко, а всему миру грозит революция…
— Меня это не интересует, — твердо ответил Эшер и согласился на чай — крепкий (в Англии даже кофе не был таким крепким), с кусочком сахара, в стакане с серебряным подстаканником, который ливрейный лакей соизволил подать ему на подносе.
Князь подождал, пока слуга выйдет, и спросил уже более тихим голосом:
— А что вас интересует, Джейми? Сейчас не самое лучшее время года, а вы проделали поистине долгий путь.
— Я ничего не знаю об истине, — так же тихо сказал Эшер, — а что касается информации, которую я ищу, то вам она покажется полной бессмыслицей.
Он на мгновение замолчал, прикидывая, сколько вопросов он сможет задать без того, чтобы спровоцировать русских на собственное расследование, — а также насколько полным будет составленный Лидией отчет, который, как он надеялся, вот-вот должен был придти…
Одно только определение «немецкий», в особенности в сочетании со словом «ученый», могло привлечь внимание Третьего отделения… и в итоге привести к депортации. Поэтому Эшер спросил о другом:
— Вы не могли бы разузнать в полиции — или, возможно, в Охранном отделении, — не было ли в Петербурге случаев так называемого самовозгорания людей?
Разумовский высоко вскинул брови:
— Как у Диккенса?
Эшер кивнул:
— Как у Диккенса.
— Но почему..?
Эшер вскинул руку и покачал головой.
— Мне нужно знать, вот и все, — сказал он. — Не обязательно, чтобы эти случаи были доказаны, достаточно лишь сообщения о них. Меня интересуют последние два месяца.
Если не получается взяться за дело с одного конца, можно подойти к нему с другой стороны… по крайней мере, пока не пришло письмо от Лидии.
Русский молчал, прищурив голубые глаза. Эшер сомневался, что князь — и кто-нибудь еще — слышал или читал о находке в заброшенном дворце в старой части Константинополя, откуда он и Лидия выбрались зимним утром 1909 года: о четырех или пяти обугленных, почти полностью сгоревших телах, вокруг которых не было никаких следов костра или горючего. Турецкое правительство замяло дело, и оно затерялось среди сообщений о более крупных волнениях, прокатившихся той ночью по древнему городу.
Но Разумовский был его другом — и царским агентом, — а значит, он наверняка поищет отчеты.
Князь сказал лишь:
— Что ж, друг мой, если вас интересует самовозгорание, то сегодня вечером на балу Теософского сообщества вы услышите о нем все, что только можно. А также о полтергейсте, левитации, падающих с неба рыбах и живых лягушках, обнаруженных в непроницаемой толще камня. Княжны любят подобное времяпровождение. У них в гостях будут все ученые, зарабатывающие себе на жизнь исследованием телепортации или таинственных чудовищ из шотландских озер…
— И уж я постараюсь, чтобы они раскрылись во всей красе.
И, возможно, спрошу их, не изучают ли они попутно болезни крови.
— Тогда вы станете самым желанным гостем вечера. Большинство этих «ученых» не склонны слушать друг друга.
— Но я также хочу знать, — добавил Эшер, — что на этот счет говорит Охранное отделение.
Разумовский снова усмехнулся:
— Вот сами у них и спросите. Они тоже будут на балу.
После того, как Разумовский еще раз заверил Эшера, что тот может обратиться в возглавляемый князем отдел Министерства по поводу любого «затруднения», возникшего во время пребывания в Санкт-Петербурге, Эшер нанял извозчика и по Каменностровскому проспекту вернулся в город. День был морозным, но ясным, и в подступающих сумерках острова сохраняли сказочную атмосферу места, далеко отстоящего по времени от нарождающегося двадцатого столетия; рощи и березовые аллеи в имениях аристократов, небольшие деревянные избы, подражающие в простоте крестьянским жилищам, — все они словно отражались в волшебном зеркале. Слабый проблеск того, что было Давным-давно.
Мир ушедшего детства? Эшер откинул голову на грязную спинку сиденья и вспомнил принадлежавший его теткам сельский коттедж в Кенте и всю прелесть лесов, начинавшихся сразу за границей сада. Мир, где за каждым поворотом тропинки и под каждым грибом поджидает нечто неизвестное и удивительное? Поэтому мы так очарованы им? Сказания и волшебное золото пленяют нас, но на самом деле мы хотим вернуться в детство, когда нас все любили и оберегали?
Когда мир был безопасным, потому что мы ничего не понимали?
Назад в то время, когда мы не знали об отравляющих газах и бомбах?
Сквозь лишенные листвы деревья виднелся Залив — тяжелые черно-зеленые волны с хлопьями белой пены.
Желтые, розовые и зеленые особняки в итальянском стиле, возвышающиеся над покрытыми мохом горгульями и гранитными львами привратницких, казались яркими, как цветы. Эшер знал, что их внутреннее убранство поражает своей пышностью: многоцветием полированного камня, черным деревом и позолотой, инкрустациями и китайскими шелками. Знал он также, что каждый рубль, потраченный на это великолепие, был отнят у крестьян из тысяч захолустных деревушек и у рабочих, которые сейчас мерзли в трущобах и фабриках, раскинувшихся на много миль совсем недалеко от этого чудесного места.
Извозчик высадил его у Таврического сада. Эшер пешком дошел до дома, в котором жила леди Ирэн Итон. Хотя дни постепенно становились длиннее, свет быстро угасал. За завтраком и во время поездок по городу Эшер просмотрел последние по времени бумаги из полученных от Исидро пачек. Пока что получалось, что Голенищев был прав, утверждая, что у леди Итон не было живых знакомых, общение с которыми выходило бы за рамки светских встреч. И все же Исидро что-то искал. Эшер свернул к конюшням, расположенным за рядом особняков, перелез через задние ворота, прошел по пустынному саду — простые изгороди, за которыми мог бы ухаживать приходящий дневной садовник, и широкие мощеные дорожки — и обнаружил, что на кухонной двери, как и на главном входе, установлен современный цилиндровый замок, лет на пятьдесят новее самого дома.
Царящий внутри сумрак вызывал тревогу. Едва ли Голенищев и его птенцы решили захватить логово — от этого шага их удержала бы неизвестность, окружающая судьбу леди Ирэн; при этом они, по всей видимости, не опасались, что в доме обоснуется их соперник, Даргомыжский. И все же при взгляде на это место у Эшера закололо в затылке. Он предположил, что с наступлением темноты петербургские вампиры возобновят слежку за особняком. Кого же она приводила сюда, спрашивал он себя, поднимаясь по широкой передней лестнице. Кого хотела поразить греческими статуями и парчовыми занавесями? Сама ли она играла на прекрасной золоченой арфе, стоящей в музыкальной комнате? И что, помимо охоты, связывало ее с одной из тех теней с кошачьими глазами, которых он мельком видел в темноте за спиной графа Голенищева?
«Для многих из нас все становится охотой, — как-то сказал ему Исидро, когда за окнами „Северного экспресса“ мелькала плоская шахматная доска Голландии, похожая на ночное Зазеркалье. — Некоторым нравится охотиться в компании, находить жертв, которыми можно будет поделиться, двух-трех за охоту… выбирать место и время». Длинные белые пальцы тасовали карты. Вампир мог часами раскладывать пасьянс невероятной сложности, и Эшер часто сбивался, не в силах удержать в памяти весь узор. «Видите ли, убивать бедных… неинтересно. Но большинство вампиров рано или поздно понимает, что богачей — даже лощеных спесивых торговцев, которых во множестве породил этот развращенный век — будут искать, пусть даже ненавидя. Те, кто живет вечно, знают, что вечность включает много, слишком много часов бодрствования, которые надо чем-то заполнить».
Он начал раскладывать карты, сразу две или три колоды, движениями настолько быстрыми, что глаз не мог уследить за ними; казалось, для него это не просто игра, но повод для размышлений над математическими преобразованиями и принципами. Эшеру стало интересно, сколько из бесконечных часов своего бодрствования Исидро заполнил возней с этими пестрыми генераторами случайных чисел.
«Поэтому мы охотимся. А когда встречаемся, то говорим об охоте. Те из нас, кто некогда читал книги, писал стихи, сочинял музыку, играл в шахматы или изучал языки, по большей части обнаруживают, что все эти предметы кажутся несущественными по сравнению с необходимостью, насущностью и близостью охоты. Они проводят ночи, предвкушая или же вспоминая ее. Мир становится кровью, страхом и властью, — он собрал карты, затем снова начал раскладывать их; длинные блеклые волосы наполовину скрывали его лицо, которое само по себе было маской. Лидия как-то сказала, что Исидро обучил ее старинной игре в пикет. Она отказалась учить Эшера, и это сделал Исидро в первую ночь их совместного путешествия. — Все остальное ускользает от них».