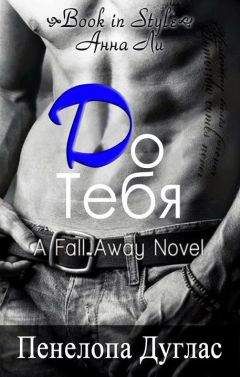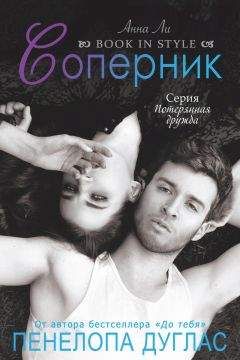угол. Я слышу его зашкаливающий пульс. Его сердце дико колотится, но кровь не достигает лица.
Оно смертельно бледное.
— Чт… что ты такое? — наконец хрипит он.
Я лишь качаю головой. Даже если бы знала сама, ему бы не сказала. Я здесь не для этого. Я
делаю к нему пару плавных шагов.
— Пожалуйста, нет! — кричит он, вытягивая перед собой руку, словно пытаясь меня
остановить. Оторвать ее, что ли? — Я никогда не причинял боли тебе! Я никому не причинял боли!
— Не смей мне лгать.
Он вжимается в стену.
— Пожалуйста… — Его челюсти работают, обвислые щеки дрожат, когда он отчаянно
пытается найти подходящие слова. Затем они льются из него, в спешке натыкаясь друг на друга: —
Это, должно быть, какая-то ошибка.
Я медленно и многозначительно качаю головой.
— Пожалуйста… Я даже не знаю тебя!
Я опускаюсь так, что наши глаза оказываются на одном уровне, и он дергается в сторону.
Наклонив голову, я мягко говорю:
— Нет. Но ты знаешь Келли. — Я бросаю взгляд в ее направлении. Она уже не кажется
довольной. Она смотрит на нас расширившимися глазами, зажав рот руками. — Вернее, знал Келли.
На лице Самсона отражается искреннее замешательство. Его губы двигаются, пока мозг
вспоминает, где мог слышать это имя.
— Келли Беллемор, — рычу я.
Его, наконец, осеняет.
— Это был несчастный случай.
— Что я тебе сказала по поводу лжи? — Я хлестко бью его рукой по лицу, оставляя на щеке
четыре красные линии. Комнату заполняет резкий запах крови. Я чуть ли не пританцовываю сидя на
корточках, мои губы изгибаются в улыбке.
Самсон замирает, видя эту улыбку. Он перестает строить из себя невинного.
— Ты наслаждаешься этим, — понимает он.
Моя улыбка становится еще шире. Знаю, что где-то мама сейчас прячет от стыда лицо.
— Ты любишь убивать точно так же, как я. — Самсон выпрямляется, возомнив, что общается
с равной. — И не только это. Ты любишь… — он замолкает, подбирая слово.
— Власть, — подсказываю я.
Его лицо просветляется.
— Я не знаю, что ты такое, но знаю, что мы похожи. — Он поднимает руки и спешит
добавить, будто боясь, что оскорбил меня этим: — Я не такой… особенный, как ты, но жажда
убивать… — Его взгляд становится отстраненным, уголки губ приподнимаются в жуткой улыбке.
Такой же, как у меня. Я проглатываю стыд и позволяю Голоду его поглотить.
Самсон мечтательно продолжает:
— Я не мог ничего поделать, она просто… — По его телу проходит дрожь. Затем его
внимание снова переключается на меня. — Я не смог бы остановиться, даже если бы этого хотел. —
Он сжимает и разжимает кулаки. — Это сильнее меня. — И смотрит на меня, ища во мне понимание.
И я понимаю его. Понимаю лучше, чем он может себе представить. Потому что для меня это
больше, чем ощущение власти. Я питаюсь душами. Без них я умру.
5
Конечно, это не объясняет, почему я так люблю их поглощать. Я провожу пальцем по щеке
Самсона, и он тихо поскуливает. Мама никогда не понимала ту чудовищную тьму во мне, которая
так жаждет убивать. Она хотела, чтобы я потребляла души так же, как овощи: без особого желания,
просто из необходимости. Самсон, этот отвратительный кусок дерьма, понимает меня лучше, чем
она. Но, в отличие от него, я хотя бы стыжусь своей слабости — во всяком случае, когда не отдаюсь
ей без остатка. Как барахтающаяся в луже собака, я люблю копаться в мерзком хлюпающем месиве
из человеческой плоти, но сожалею об этом, стоит крови высохнуть на мне и коже начать чесаться.
Такие дурные существа, как Самсон, не испытывают чувства вины. И у них нет воспоминания-мамы,
неодобрительно цокающей языком и качающей головой.
Вместо этого у них есть я.
Подозреваю, что они никогда не чувствуют вины за содеянное, но я делаю все, чтобы они
потонули в сожалениях об этом. В красных, липких сожалениях.
Так что Самсон прав, мы похожи. Однако, к несчастью для него, лицемерие — меньшее из
моих грехов. Он радуется тому, что нашел схожие у нас черты, я же ненавижу себя за это.
Я наклоняюсь к нему, пока нас не разделяют какие-то жалкие дюймы, и закрываю глаза. Я
ощущаю его дрожь, вдыхаю опьяняющий коктейль из страха и крови, и меня заливает жаркой
волной удовольствия. Самсон шевелится, и я резко распахиваю глаза, пригвождая его взглядом к
месту.
— Ты прав. Я такая же, как ты. — Я делаю вдох, затем медленно качаю головой, не отрывая от
него глаз. — Но тебе это нисколько не поможет.
Его глаза округляются, рот беззвучно открывается и закрывается. Я дарю ему еще одно
мгновение жизни, проведенное в панике. Потом Голод с ревом несется по венам, сметая все на своем
пути. Я выдергиваю Самсона из угла, разрываю его оболочку, как освобождала бы рака от панциря, и
он падает в мои руки. Так легко.
Представьте ребенка на его первом дне рождении.
Так вот Самсон в моих руках — торт.
Я слышу свой собственный смех, повизгивание и фырканье. Бардово-красный мир вокруг
пульсирует. Пылает.
Душа Самсона, выдернутая из оболочки — бурляще-серый эфир, похожий на грозовое облако.
Голод взвывает, и я поглощаю душу. Она течет внутрь, искрящаяся и прекрасная, наполняя,
растягивая меня, пока не возникает ощущение, что она не уместится внутри. Я выгибаюсь, широко
раскинув руки. Я — каньон, окружающий прекрасную реку. Когда ее воды отступают, все внутри
меня бурлит от удовольствия, бурлит от победы.
Я встаю, упиваясь восторгом, пьяная от сладости выпитой души и краем глаза улавливаю
сбоку мерцание — перекошенное от ужаса лицо девочки-призрака, проходящей сквозь стену. Ее
глаза снова наполнены слезами.
Я оставляю позади кровавый беспорядок и стены, окрашенные в стиле Джексона Поллока —
абстрактного экспрессиониста. Красный, серый, черный, коричневый цвета.
Больше красного.
Сама-то я предпочитаю неоимпрессионизм — Сёра, Синьяк!1 — но мои способности
ограничены. Обычно я стараюсь быть более аккуратной. Мне не хотелось бы видеть свое лицо в
новостях (особенно с такой прической). Но в этой психушке вряд ли захотят провести расследование,
так что я укладываю труп надлежащим образом (Пикассо!) и на случай если мой намек слишком
тонок, пишу кровью на стене:
«Я за вами слежу».
Под этим словами я прикрепляю «любовную записочку» для администрации психбольницы, в
которой даю понять, что знаю, где закопаны тела — в одном конкретном случае «закопаны»