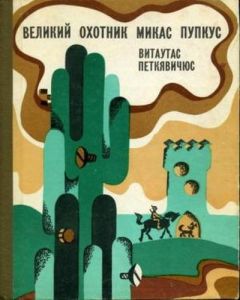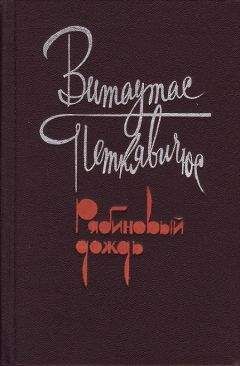— Микас, ястребу на спину карабкайся!
А самый робкий во всей деревне человечек вдруг схватил камень и ка-ак швырнет в нас. И надо же — угодил прямехонько в леску и перешиб. В ушах у меня только — ффью-у! — ветер засвистел, и как грянулся я в пруд, даже вода по сторонам расплескалась. Оно и лучше. Я сухим-сухой из пруда выбрался да еще полную торбу карасей набрал. Может, и не караси то были, а лягушки. А может, и вовсе ничего не было. Но что же тогда у меня за пазухой так колотилось и трепыхалось?
Честное слово!
ДВЕНАДЦАТЬ ПЯТНИСТЫХ ПОРОСЯТ
— Мама, заяц!
— Ну и что? Друг-приятель он тебе, что ли?
Выбравшись из пруда, разыскал я камень помягче, уселся поудобнее и принялся ловить за пазухой этого буяна. И так ухвачусь, и эдак уцеплюсь, все никак ни за хвост, ни за нос не могу поймать. Разобрал меня смех — наверно, зацепил ненароком щекотную косточку, — от смеха аж слезами зашелся. Стал глаза протирать и только тогда сообразил — ведь я ничего не вижу, всего ряской залепило. Оттого так долго искал.
Протер кое-как, смотрю — обступила орава пацанов, пальцами в меня тычут. Одни рябенькие, другие пестренькие, третьи веснушчатые. И у всех, должно от зависти, дух перехватило — стоят, глаза выпучили, пялятся на меня, будто на рыбу заморскую, и молчат. Вот еще, думаю, напасть, неужели к немым попал?
Не успел подумать, как у меня из ушей — хлоп, хлоп — две пробки грязи вылетели. Тогда-то я и услышал, что говорит самый храбрый из пацанов:
— Аа… ты действительно Микас Пупкус?
— Ребята, — отвечаю, — ястреба я одолел. Во-от такого, — и развел руки во всю ширь. От сильного удара все наказы старосты у меня из головы вылетели.
— Аа… может, ты Илья-пророк, с небесной колесницы от грома скатился? Может, с Марса или с Луны свалился?
— Придумал тоже. Я тебе дело говорю — во-от такой ястреб был. Как тысяча воробьев и одна муха.
— Так ты и вправду Пупкус?
— Можешь пощупать, — рассердился я.
— А почему ты не такой, как все? Почему ты черный и с зелеными косами?
— Вот бестолочь. Это же тина и грязь из пруда. Но видел бы ты, какой ястреб был — во-о-от такой…
Самые смелые подошли, ощупали меня, все мои одежки, убедились, что я не привидение и не с неба свалился, и выбрали меня атаманом. Тогда я им все без утайки и без прибавки, всю чистую правду, — вот как вам сейчас, — по три раза каждому по порядку рассказал и начал было по четвертому, да вдруг не ко времени про дом вспомнил и собрался уходить.
— Ты только нам покажи — где, только объясни — как, — упрашивали пацаны. — А потом мы сами…
Дома мне никто даже и не думал сочувствовать. Дедушка пыхтел трубочкой в углу и не поднимал головы. Бабушка, отвернувшись, вязала чулок. Отец смотрел в окно и пальцами наигрывал на губах охотничий марш. Мама в такт гремела горшками у плиты и делала вид, будто меня не замечает. Было ясно: баня уже истоплена, розги замочены, только еще не договорено, кто первый примется за меня.
"Хоть бы ребятня от окон убралась, уважение к своему атаману проявила!" — подумал я с горечью, а своим сказал:
— Делайте, что хотите, только ястреб и вправду был громадный…
Кастрюли загремели сильней, и последняя моя храбрость улетучилась. Уж не знаю, что мне в голову взбрело, только я вдруг забеспокоился о поросенке, которого на дуб закинул.
— Дома ли Гнедко? — спросил у отца и почувствовал, что не стоило спрашивать: к грохоту кастрюль прибавилось бренчание сковородки. Но я решил не сдаваться: — Мне кабана надо из лесу привезти, — выпалил одним духом, а сам на всякий случай прикидывал, куда бы лучше дать дёру в случае чего.
У печки затихло. Тогда и отец приободрился.
— Как вернется Гнедко, я скажу ему, — усмехнулся он. — А ты, сопливец, не мог бы нам объяснить, что это ты в поднебесье выделывал?
— Охотился, — не смутился я.
Отец прыснул в кулак и обратился к дедушке:
— Ты только послушай, что говорит: охотился он, вишь ты! Так кто же из вас кого поймал: ты ястреба или он тебя?
— Не знаю. Я крепко за свинью держался, а этот тихоня мне дело испортил, леску перебил.
Крышки больше не гремели.
— Так, значит, не знаешь, кто за кем охотился? — переспросил отец и, хлопнув меня для порядка пониже спины, вполголоса спросил: — Так, говоришь, солидный клыкан попался?
Мама топнула ногой и погрозила нам пальцем.
После этого я попал в руки к дедушке. Он ощупал своими твердыми пальцами мои оттопыренные уши и заявил:
— Тому, кто в поднебесье летает, полагается больше знать. — Покосившись на бабушку, дал мне щелчка, да так ловко, что треску полная изба, а боли ни чуточки. — Ну, а теперь что скажешь? — а сам подмигивает мне украдкой.
— Где уж тут, — говорю, — сообразить, когда треск такой стоит. То ли у тебя ноготь, то ли у меня лоб раскололся…
— Заруби себе на носу, — дед обрадовался, что я так хорошо подыграл ему. — Мужчина на охоту не за прибытком, а за храбростью ходит. Мы тут уж не знали, что думать, а он и ухом не ведет, постреленок. — Дедушка многозначительно посмотрел на бабушку и, притянув меня поближе, поинтересовался: — Пулей или дробью на кабанчика заряжал?
Мама и его отчитала за потачку, потом взяла меня за руку, подвела к стене, ткнула пальцем между календарем и часами и спросила, предварительно дав подзатыльника:
— Видишь?
— Ровно час.
— Теперь понял, за что досталось?
Я пожал плечами и попробовал угадать:
— Если бы пришел в двенадцать, вместо одного тумака двенадцать отвесила?
— Я тебя не про время спрашиваю. Ты на календарь смотри, — мама в сердцах схватила меня за ухо и повернула мою голову, куда следует.
— Среда, — заморгал я.
— А ушел в субботу!
С перепугу у меня в голове все перемешалось.
— Неужели я пришел на три дня раньше, чем вышел? — обрадовался я. — Как же теперь быть? Значит, надо все тумаки обратно возвратить?!
— Болтун! — мама уже не сердилась. — А если бы, не дай бог, убился где? Что тогда?
— Тогда некого было б и тумаками потчевать, — вступилась бабушка, притянула меня к себе поближе и спросила: — А скажи, дитятко, красивая сверху земля? Я ведь ни разу в жизни выше крыши не поднималась.
Бабушке мама противоречить не решилась. И стала вокруг меня хлопотать, ссадины да синяки мои охаживать. Камень холодный из погреба достала и к одному синяку приложила, к другому — топор прижала. А сама как бы невзначай спрашивает:
— А велик ли кабан?
— Как жеребец.
— А жирен ли?
— Как чибис.
— А много ли от него прибытку будет?
— Да на грош натянем.
— Ох, добытчики мои, — вздохнула мама и наклонилась, чтобы поцеловать меня. А у нее из глаз слезы — кап! — мне на щеку… — Лучше б ты перо матери на шляпу у ястреба из хвоста выдернул. Все соседи полопались бы от зависти…
И от ее слов так мне тепло и хорошо стало, будто солнышко в дом заглянуло. Все легко вздохнули и кинулись жалеть меня да подробности выспрашивать. Но мама не дала им и слова вымолвить.
— Все мы, вижу, в душе охотники, но порядок должен быть. Не торчите без толку под ногами. Не видите, что ребенок голодный пришел? Вы вдвоем с дедом целыми днями в лесу околачиваетесь и пустыми приходите, а он не успел на охоту выйти — сразу и ястреб, и кабан.
Отец на такую обиду ни словечка, отрезал ломоть хлеба во всю буханку, мяса кус сверху положил и принялся резать еще ломоть, но вдруг остановился, бросил нож на стол, разломал буханку пополам и вытащил из нее за обору запеченный лапоть.
— А это в каком бору добыли? — ухмыльнулся, чтобы матери отплатить за укоры.
— Сами виноваты, — накинулась на него мать. — И жнете, и молотите, и веете, и мелете, и муку просеваете, а лаптя не заметили. Вам только бы кабаны, только ружья… Чем языком молоть, отправились бы за кабаном в лес.
До этих слов я все еще мялся, а уж тут выпрямился во весь рост и сел к столу как равный с равными. Хотя помирал с голоду, борщ прихлебывал степенно, неторопливо. Выловил из миски кусок мяса и солидно объяснил отцу:
— Ты дохлебай борщ, а с мясом я управлюсь, так быстрей будет. И сможем в лес ехать.
Отец поморщился, но ничего не ответил, потом улыбнулся в усы, задумал, верно, что-то. Когда вышли мы с ним во двор, он посадил меня на телегу, сам оседлал коня и подался в лес.
— Куда же ты, погоди! — закричал я.
— Ты на телеге, а я верхом, так быстрее будет. Доброго пути! — и весело помахал шапкой на скаку.
Стыдно мне стало. Слез я с телеги и пошел в лес один, кабана своего искать. Неделю, верно, бродил и наконец совсем потерял надежду найти тот дуб и гнездо на нем.
Иду я, повесил нос, на птичек охочусь, белочек дразню, из шишек семечки грызу. И вдруг что-то как заорет над моей головой, как завизжит. Меня даже жар прохватил. Чтобы охладиться, шарахнулся я в сторону, ветер пустил, полегчало. Но на пути у меня опять очутился этот злосчастный дуб — девять пядей в ширину, пять вершков в высоту. Поглядел я вверх, на ветви, и как подкошенный свалился на землю. Час, верно, катался, ухватившись за живот, пока отпустил меня смех.