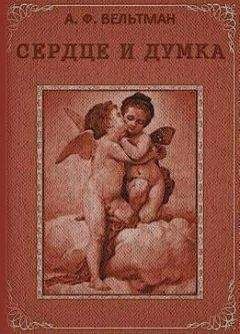— Et bien un air russe![117]— и попросили одного молодого человека запеть русскую арию; он запел трубным гласом:
Мы-мы-мы идем на поле бррани!
Тррр! Трррубный звук и баррабанный грром!
Чу-чу-чуудо богатырь! во длани
Гррозный ммеч и на челе шелом!
Ща-ща-щастье и победа с хррабррым,
Чурррр, не рробеть и вперед напрролом,
Ус свой черрный поррохом нафабрррим,
Не огнемм все возьмемм, а беллым рружьем!
— Шш! Шш! — раздалось по зале. Певец умолк.
— Что такое?
Надине дурно, Надина почти без памяти на руках матери.
— Sufficit! Manifestum est![118] — сказал один из докторов, — теперь понятно, в чем дело: чувствительный и нежный слух ее не переносит русских звуков — и не удивительно: во мне самом некоторые звуки производят сотрясение. Должно полагать, что ухо ее поражается буквами stctcha, tstse и ouoi.[119]
— Скажите, пожалоста, — продолжал он, обращаясь к матери Надины, — не имеет ли дочь ваша отвращения от русского языка?
— Ах, она его терпеть не может и сама никогда не говорит, — отвечала родительница.
— Гм! — сказали доктора в одно слово, — это болезнь национальная! — и, заговорив по-латыни, они пожали плечами.
— Одно средство — отправить за границу.
— О, нет! — сказал про себя один медик, — что производит болезнь, тем надо и лечить: чтоб укрепить и приучить ее нервы к еры и ща, надо выдать ее замуж за какого-нибудь ерыгу и кормить щами.
Такова была Надина.
Что же касается до Барб, то она была существом совершенно идеальным, сладостным, мечтательным и нежно ахающим. Беленькая собой и в беленьком платьице, она была похожа на зайку на задних лапках.
VI
Теперь приступим к описанию шести наших кавалеров.
Кавалергард был из числа тех, к счастию или несчастию, многих людей, которым на роду написано заботиться только о приобретении почестей в свете — и более ни о чем; из числа тех людей, которые составляют ветви укоренившихся дерев, растущих на широком просторе, и мало думают о непогодах жизни, о благотворном дожде и росе, не боятся засухи и гордо раскидывают тень свою по пространству, на котором часто вянут отпрыски плодоносных дерев, посреди недоброго зелья.
Кавалергард получает, кроме жалованья, свои тысячи, живет посреди блеска величия, золота, бриллиантов и бальных огней, ни о чем не думает, кроме парада, ничего не считает, кроме визитов, ничего не читает, кроме нот новой кадрили, ничего не говорит, кроме комплиментов, ничего не чувствует, кроме позыва на удовлетворение пяти чувств… Он статен и свеж; судя по смоляным усам, он брюнет; но глаза его бледно-серые, волоса, как лен. Все жмет ему руки, все приветливо предупреждает его словом bonjour! Жизнь его так хороша, что иной земнородный не составит себе лучшей идеи о будущем блаженстве.
В доме отца Юлии увидела его княжна Мельани и влюбилась.
В доме отца Юлии увидел он в первый раз mademioselle Barbe и — влюбился.
M-r Пленицын, чиновник военного министерства, был молодой человек с вздернутым носом и с огромным вихром. Он был самородное золото; жил жалованьем и наградами из экономических сумм; но где он жил, на какой улице Петербурга, в котором этаже — это было неизвестно; несмотря на это, он был везде, в кругу лучшего общества, и театре расхаживал перед первым рядом кресел, облокачивался во время антрактов на стенку, отделяющую музыкантов, лорнировал ложи, везде встречал коротких знакомых, жал руки, давил ноги, думал мало, говорил много, знал наизусть весь женский туалет и моды, помнил, как и кто из дам была в прошедший раз или в прошлый бал наряжена; понимал, что кому к лицу, и слыл умником и любезником в залах.
Несколько раз польстил он Агриппинё замечанием, что она одета с необыкновенным вкусом и лучше всех, и — Агриппинё полюбила его как человека единственного, который умел ее оценить.
Но ему понравилась Надин; он заметил, что, когда с ней ни заговорит (он говорил очень часто по-русски с благим намерением ввести русский язык в общественное употребление посреди салонов), всегда делалось ей дурно. Однажды, танцуя с ней, он хотел в вихре вальса сказать какой-то комплимент, и, едва произнес: «Как ща… ща… ща…стлив я…», — Надин крепко сжала ему руку и потом почти без чувств припала к спинке стула; грудь ее взволновалась. Это он видел и подумал, едва переводя дух от восторга: «Она меня любит!»
Сверх того, Надина была сродни всем главным лицам на том пути, по которому он шел за чинами и состоянием.
Любимец Зеноби был attaché при каком-то генерале; юноша татарского происхождения, римской физиогномии, английского нрава, немецкого ума, французского вкуса, китайской учтивости, мерности и правильности.
Он увидел Пельажи и — влюбился. Ему очень нравилась ее сурьезность: «Это явный признак ума», — думал он, не сомневаясь в красоте душевных ее свойств; девушка, исполненная ума, и не умничает, мало говорит, а больше слушает — чего же вернее? Кроме маленькой ее головки и ножки-крошки, ему нравилось в ней это равнодушие ко всему и всем, этот безрадостный взор и уста без улыбки. «Она не расточает, — мыслил он, — чувств сердца своего напрасно; она бережет их вполне для любви: как крепко, как сильно полюбит она! и первая улыбка, первый радостный взор ее достанутся счастливцу! О, Пельажи!»
Он любил Пельажи, а Зеноби его любила. Какое странное противоречие симпатий! странное и, может быть, необходимое для разнообразия общественных отношений. Зеноби полюбила в нем Иосифа — толкователя снов.[120] Attaché был ходячим сонником в кругу знакомых; он ужасно любил все толковать; разумеется, что эта страсть привела его к толкованию снов. Очень часто к нему обращались с вопросами вроде:
— Скажите, что значит видеть себя в лесу?
— Это значит, что вас будет окружать лесть, — отвечал он.
— Что значит, я видела во сне, будто гуляю в саду, а против меня дом с бесчисленным множеством окон?
— Этот сон исполнился уже над вами: это значит, что на балу вы будете предметом удивления и зависти.
Толкование снов обратилось в нем в привычку, и Ранетски, с полной верою в предзнаменовательность снов, говорил всем, что сон есть аллегорическая будущность и что Провидение ниспосылает их как предвестников в предостережение человека от приближающегося зла.
Никто не видал столько предзнаменовательных снов, сколько видела их каждую ночь Зиновия. Сны так беспокоили ее душу, что для нее подобный толкователь, как attaché Ранетски, сделался необходим; предсказания его всегда сбывались. Говорил ли он ей: «Вы получите большое огорчение», — она непременно получала какое-нибудь большое огорчение; говорил ли он ей, что она будет царицей бала, — она, в самом деле, горделиво окидывала всех взорами с вершины предсказанного величия, видела в мужчинах какую-то покорность, в женщинах уничижение и думала: «Как справедлив сон!» — дивилась, отчего так странно все изменяется и в ней самой, и в других?
Капитан 2-го ранга, разумеется, был моряк, умеренных лет, но не раз уже совершивший путешествие вокруг света. Когда увидела его в первый раз Пельажи и разговорилась с ним о сглаживании, он сказал ей, что знает вернейшее средство против черного глаза, средство, которое открыл ему один турецкий дервиш.
— Скажите мне, пожалоста, скажите это средство, — умоляла его Пельажи.
— Никак, никак не могу, — отвечал он ей, — если я открою кому-нибудь эту тайну, то сам потеряю способность заговаривать от глаза.
Тщетно ухитрялась Пельажи выведать удивительный секрет: моряк таил; но самолюбие женское всегда и во всем хочет поставить по-своему: секрет Капитана не выходил из ее головы, а вместе с секретом не выходил из головы и владелец секрета. При Капитане Пельажи не боялась ничьего глаза, была весела, мила, разговорчива; но чуть Капитан скрывался, вместе с ним исчезала и живость Пельажи; она становилась грустною, ни на кого не хотела смотреть, уединялась и даже вздыхала.
Но Капитан вздыхал не по ней, а по Зеноби. Когда задумывалась Зеноби о значении виденного сна, на челе ее заметно было глубокомыслие, а не мечтательность — это ужасно как нравилось Капитану.
Любимцу Надины непременно следовало быть человеком, который сроду не произносил ща, не и еры; и в самом деле, чиновник иностранных дел был сладчайшее существо общества, легкое, как мыльный пузырь, нежное, как мадам Дюдеван в мужском платье.[121] Ему уже удалось один раз побывать в столице французов; по возвращении в Россию все стало в нем дышать изяществом парижских мод и обрядов. Он был недурен собою, немножко с завезенной из Рима физиогномией, и был любим дамами как интересный молодой человек. Дамы даже с восхищением слушали его пенье, молчали все до одной, когда он изливал, á gross boillon,[122] звуки французского романса в раковинки прекрасных ушей, как нектар; только иные из мужчин, не полагаясь на женский вкус, метались от фортопьян во все стороны, как кони, испуганные голосом Онагра.[123]