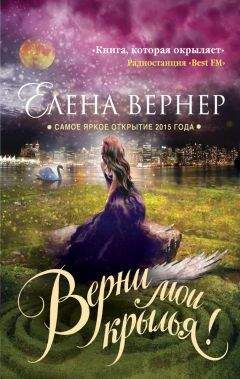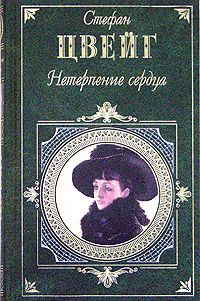– Я ведь попробовала! Уже три дня умываюсь, как он сказал, овсянкой, и прямо чувствую, как кожа лучше становится! Даже морщинки разглаживаются, – из-за двери фанерной кабинки Ника услышала голос Милы, зашедшей в женский туалет.
– Мне иногда рядом с ним не по себе, – раздался голос Риммы. – Не знаю, что творится у него в голове. Но там явно очень много всего.
– Вряд ли это недостаток, – отозвалась Липатова.
– Он составил мне список книг, которые неплохо бы прочитать. Представляете? Он такой умный. – Корсакова мечтательно вздохнула. Ника даже через перегородку услышала усмешку Ларисы Юрьевны:
– Тебе это полезно. Читать, я имею в виду.
– Это какой-то намек? – тут же обиделась Римма.
Ника слила воду, прослушав ответ Липатовой, и прошмыгнула мимо дам в коридор.
На репетициях, куда одним глазком заглядывала Ника в свободную минуту, Кирилл поражал своей способностью, вживаясь в разные роли, быть отталкивающим, или смешным, или жалким и от этого становился еще более притягательным. В реальном мире ей доставляло удовольствие замечать их схожие вкусы. Когда Лизавета Александровна принесла банку домашнего малинового варенья, он слопал чуть не половину, нарочно уморительно постанывая и щурясь от удовольствия. Ника поступила бы так же, только не играя на публику. Они оба предпочитали одежду темных глухих тонов, только большинство его вещей были к тому же сшиты из тканей, поглощающих свет и звук, и приятные на ощупь: вельвет, флис, ангора, фланель. Словно и Кирилл хотел укутаться, спрятаться от кого-то или просто окружить себя уютом, которого некогда был лишен.
Она ловила себя на том, что из другого угла комнаты часто смотрит на его руки, когда он что-нибудь рассказывает. Чуткие и сильные, с подвижными запястьями, они помогали ему намного полнее выразить смысл слов. Ника гадала, умеет ли Кирилл играть на фортепиано, ведь при таких руках он запросто может взять полторы октавы, но крышка стоящего в фойе рояля оставалась опущенной, и Ника никогда не замечала, чтобы взгляд Кирилла обращался к инструменту. На левой его ладони, на возвышенности у основания большого пальца, той, что хироманты зовут холмом Венеры, то и дело появлялись чернильные пометки, крестики, галочки, цифры: Кирилл пользовался ладонью как блокнотом. Совершенно школярская привычка, если вдуматься, и пошутить по этому поводу не решился только ленивый – и бессловесная Ника, находившая эту особенность милой. Еще Кирилл просто обожал вертеть в руках предметы, он жонглировал мячиками для пинг-понга или апельсинами, чтобы развлечь остальных, в задумчивости крутил между пальцев карандаши, расчески, тюбик Римминой помады, вращал на пальце брелок с ключами, играл с ножами. Его кисти были постоянно в движении, быстрые, ловкие, как у циркача. Эта манера нервировала Римму, которая, хотя их отношениям исполнилось две недели, уже старалась переделать его под себя. Иногда она спорила с ним, иногда поправляла, порой капризничала, пытаясь повелевать, и Кирилл исполнял ее прихоти, молча, проявляя чудеса терпеливости.
Ника и Кирилл по-прежнему не обменялись даже парой слов. Девушка старалась держаться подальше, хотя бы до тех пор, пока воспоминания о ночных телефонных звонках не потускнеют. Возможно, он уже и думать забыл про случайную собеседницу, да и голос у нее не такой запоминающийся, но так все же было спокойнее. Однажды Ника чуть не попалась: помогая костюмерше Женечке переносить ворох сценической одежды из одной подсобки в другую, выпустила зажатую под мышкой книгу. Поднять ее с пола прямо сейчас она не могла, а вернувшись, застала Кирилла Мечникова собственной персоной, одного посреди сумрачного коридора. Он успел не только покрутить книгу в руках, но и углубиться в чтение, где-то с середины тома.
– Макьюэн[5]. Ваша? Отличная книга… Один из немногих авторов, кто еще не утратил способности писать правду о человеческом нутре.
Он, кажется, ждал от нее какого-то ответа, хотя бы для поддержания светской болтовни, но Ника просто кивнула со слабой беспомощной улыбкой, взяла протянутую книгу и поспешила спрятаться в своей норке.
Конечно, она стала его горячей поклонницей, уверяя саму себя в том, что привлекает ее только его доселе не востребованный талант. Это удивляло, и очень быстро в Никину привычку вошло рыскать по Интернету в поисках каких-нибудь сведений о нем. Но о простых людях, не звездах и не президентах, там говорится мало, а в социальных сетях он не регистрировался, напоминая в этом ее саму, – или нарочно скрывался. Нике пришлось довольствоваться хвалебными отзывами зрителей на сайте их театра и несколькими портретными фото, очевидно, из актерского портфолио, которые она разглядывала чуть ли не под микроскопом. Кириллу шло быть загадочным и задумчивым, но на некоторых снимках она узнавала его вполне повседневным, с искоркой в глазах и щедрой улыбкой, в которой становились видны чересчур заостренные боковые резцы. В бледно-бирюзовой, белесой и почти прозрачной радужке правого глаза темнело карее пятнышко, а в другом глазу такого пятнышка не было, и из-за этого разнобоя взгляд приковывал к себе внимание – Ника давно заметила, что ничто не выбивает людей из колеи больше, чем необычные глаза собеседника. Может, других его взгляд и нервировал, но Ника о нем грезила.
Все это делало ее счастливой. Она надеялась, что не стала и не станет похожа на одну из тех безумных поклонниц, что караулят предмет своих мечтаний у служебного входа и лепят плакат с любимым изображением на потолок в спальне. Впрочем, в этом нет никакой необходимости, театр «На бульваре» и так в ее распоряжении с утра до вечера, со всеми его помещениями и обитателями, пусть даже те об этом и не подозревают. А первая мысль после пробуждения тоже была – о Кирилле Мечникове. Она поднимала Нику с кровати, дергая вверх, как раскрывшийся парашют, и настроение моментально окрашивалось в лазурь. Девушка сама себе удивлялась. То, что Кирилл завел роман с Риммой, не означало, что он принадлежит теперь Римме – как ни один человек на земле не принадлежит другому, даже если оба страстно этого желают. Нет, он принадлежал лишь самому себе, а Ника… Нике было довольно и того, что она встречала его почти ежедневно, порой узнавала издалека характерную раскачивающуюся походку по щербатому паркету-«елочке» или чувствовала знакомый запах от мокрого воротника пальто, перекинутого через спинку стула в грим-уборной. Пахло далеким морем и мачтами, протыкающими ватные облака… Ее тайная нежность ни к чему Мечникова не обязывала и ничем не отягощала. Одно сознание того, что этот человек живет, просто существует в мире, и она даже знакома с ним, наполняло ее мягкой, пушистой и бесформенной радостью. Ведь большинству людей, думала она, повезло куда меньше… Да и сама она не готова выйти из тени, жить без оглядки – и навряд ли когда-то осмелится.
Ника в полудреме от приближения обещанного снегопада сидела за окошком кассы. За билетами давно никто не приходил, глаза ее слипались, и слова в раскрытой на столе книге никак не хотели складываться в осмысленные предложения. Но вот из-за приоткрытой двери в фойе до нее донесся бодрый голос Рокотской:
– Пионерский галстук –
Нет его родней!
Он от юной крови
Стал еще красней.
Как повяжешь галстук,
Береги его,
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного![6]
В отдающей эхом тишине фойе, под гулкими сводами перекрытий стихи прозвучали особенно торжественно – и тревожно.
– Лизавета Александровна, чего это вы? – послышался в ответ голосок Риммы. Ника прямо в крутящемся офисном кресле подкатилась к двери и открыла ее пошире. Стала видна часть холла, в которой Корсакова, крутясь возле зеркала в полный рост, кокетливо повязывала на шее алую косынку. Рядом, собираясь уходить, застегивала пальто Рокотская.
– Не понимаю я нынешнее увлечение советской символикой, – пожала плечами та. – Ладно, мы, кто помнит Союз, ностальгия, все такое прочее, но молодежь, как ты… Пионерский галстук на манер шарфика… К чему все это?
– Что? – нахмурилась Римма, и руки ее замерли. – Это не галстук. Это косынка, на полу лежала. Кто-то оставил, наверное, я решила примерить. Мне красное идет!
– Да брось, никакая это не косынка, самый настоящий галстук, пионерский, говорю же. Я его и на ощупь узнаю, столько лет сама носила, а потом сыновьям гладила по утрам.
– О господи…
Римма, невзирая на природную свою смуглость, сделалась белой, как мука, и принялась дергать косынку. Тугой узел поддался не сразу.
– Снимите его с меня, снимите! – взвизгнула Корсакова, насмерть перепуганная. Рокотская поспешила помочь.