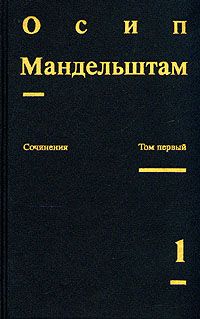Тут Анна уронила ложечку, и та смешалась на тропинке с остальными.
«Боже мой, — промолвила Анна, — вы же могли там умереть!»
«Нам повезло», — сказал я с готовностью.
Тут она заметила, что ей пора идти.
Вечером, когда она обошла всех родных согласно своим намерениям, мы встретились снова. Я проводил ее до площади. Котенок был еще там. Анна помахала мне, когда отъезжала вдоль бульвара. Солнце садилось. Я помахал ей в ответ салфеткой со следами абрикосового пирога, а потом повернулся и пошел домой. Так мы провели время; а если она будет говорить, что все было иначе, не верьте ни одному ее слову.
Ваш Кв.
P. S. «Глоссы на Боэция» Анна по забывчивости увезла с собой. Заберите их, пожалуйста, пока они еще целы.
1 июня
Дорогой FI.,
я проснулся среди ночи (шел дождь), вертелся, пытаясь заснуть, и наконец встал с твердым намерением писать Вам, чтобы внести какое-то важное исправление в то, о чем говорилось в предыдущих письмах, — нацарапал несколько слов, и тут меня сморило сном. Поутру, поднявшись и вспомнив о делах прошедшей ночи, я обратился к этому листку и нашел на нем лишь слова «балерины вырвались из театра», хотя я твердо помню, что собирался писать совсем не об этом. Имейте в виду, что все дальнейшее я пишу с чувством острого сожаления.
Таким вот образом я закончил свою речь об отравах, которой Филипп был, без преувеличения, поражен.
— Может быть, — пробормотал он, — барон интересовался аконитом по каким-нибудь иным причинам?
— Да, конечно, — закричал я, — ради охоты на пантер[12]! Опомнись и подумай: когда человек, чья оранжерея полна ядами и противоядиями, приглашает тебя на обед и внезапно умирает, не разумно ли предположить, что по одной оплошности он отправился тою дорогой, которую вымостил для тебя?
Тут уже Филипп пришел в себя и первым делом сказал, что не стоит впадать в такие выводы, и спросил, что же тогда, по-моему, должна значить эта надпись. — Две вещи, отвечал я: либо знак того, что почва в этом месте особенно хороша для разведения аконита (ты же знаешь, что не все растения могут равно сожительствовать друг с другом, не подавляя и не угнетая чужих сил, да и не на всякой почве можно сажать), либо — что кора или сердцевина того дерева, на котором гнездимся мы с тобою, пережидая вилочный потоп, имеют точно то же свойство, что и аконит, и могут быть использованы в том же смысле.
Не успел я это договорить, как почувствовал себя неуютно. Некоторые гипотезы надо обуздывать, а если не умеешь, то пеняй на себя. Я умолк, прислушиваясь к самому себе, — то меня терзал соблазн лизнуть сигиллярию, чтобы узнать, точно ли у нее вкус «терпкий и горьковатый», то начинало казаться, что вот уже проступает на лбу обильный и холодный пот, уже кишечник надувается и голову охватывает боль, и все ближе слышится смертельная поступь отравы. Конечно, Вас это не так трогает, потому что Вы знаете, что я рассказываю Вам эту историю, следственно, не умер; но мне-то в тот момент неоткуда было знать, что я повествователь, и оттого у меня были все основания опасаться за свою будущность. Я ощущал явственный зуд в ногах, усиливавшийся при мысли, что в уязвления, оставленные вилками, впитываются враждебные соки зачумленного дерева. Я начал ерзать на ветвях, и моя сигиллярия закачалась. Филипп недовольно осведомился, чего мне неймется. Я ответил, что не хотел бы его расстраивать, зная, как я ему дорог, но мне кажется, что я на полпути к тому, чтобы пополнить собой ассортимент привидений этого дома, придав ему, так сказать, дифференцированный вкус. Вообще, добавил я, хороший хозяин должен стараться, чтобы в доме было призраков много и самых разных — от задумчивых и трогательных, под цвет молодой луны, до зловещих итальянских монахов с дежурным перечнем пороков на лице: тогда хозяин может, как Эол, выпускать из своих мехов то или иное привидение согласно вкусу гостей — а то ведь некоторые заведут одно, и оно бродит, как шарманщик на заре, распевая «Mein Liebchen, was willst du mehr»{26}, и ни убить его, ни прогнать деньгами нельзя. — Филипп, мигом вспыхнув, бросил мне, что я говорю об отце Климены и что я мог бы сдержать обычное свое бесстыдство хотя бы из уважения к смерти, если ни к чему другому у меня уважения нет. — Я уже говорил, что он очень вспыльчив.
Между тем столовые принадлежности начинали иссякать. Проскакал последний отряд ложек для сыра, в форме языка, сложенного трубочкой; за ними, стуча длинной ручкой, хромал по гравию одинокий половник для пунша, словно заблудившаяся полковая кухня, и вот тропинка вновь оказалась тихой и безлюдной, как четверть часа назад. Арьергарды блестящей колонны двигались к дальнему выходу оранжереи. Наученные подозрительности, мы, однако, не торопились покидать своего убежища; но прождав еще минут десять и не увидев более на тропе ни одного столового орудия, мы повеселели и пустились в обратный путь по стволу. Спрыгнув с дерева, Филипп первым делом кинулся проверить, прав ли я был в предположении насчет аконита; однако проклятые вилки, скакавшие за мной, так раскрошили кору, что от надписи, и прежде не очень разборчивой, теперь осталось лишь ACON…, из чего нельзя было сделать никаких твердых выводов.
Мы были в сомнении, куда теперь идти — через оранжерею, вслед за ушедшими вилками, держась от них на безопасном расстоянии, или же назад — и наконец решили вернуться в тот коридор, из которого свернули в оранжерею, и продолжить путь по нему.
Когда мы выходили через железный порог, а оранжерея, вернувшаяся к своей обычной дремоте, провожала нас смутным лепетом листвы и духом несчетных цветов, Филипп вдруг спросил: А что, если барон на самом деле жив?
Ну да, сказал я, просто он при гостях позволяет себе расслабиться и быть прозрачным. Такое сплошь да рядом бывает. — Да нет, погоди, нетерпеливо сказал Филипп, — положим, мы видели его душу («Положим — это сильное слово», пробормотал я), но мы же не видели его мертвого тела, а?.. Разве смерть — единственная причина, заставляющая душу расстаться с телом («Почему, есть еще масса вещей», пробормотал я), и разве она обязательно расстается с телом навсегда? Есть же состояния, которые мы объединяем общим именем исступлений, когда душа словно забывает сама себя и меняет обычное положение относительно тела, совершая разнообразные действия, коих по возвращении может совершенно не помнить.
Я сказал, что в этих случаях хорошо, если имеешь дело с человеком порядочным, который не станет отступаться от своих проделок, заявляя, что это все не он, а его душа. Так, один мой хороший знакомый сделал своей будущей жене официальное предложение, которое потом пытался дезавуировать как совершенное в приступе лунатизма, хоть это и было в половине двенадцатого утра и он после этого еще немного поговорил с ее отцом о турецкой политике и видах на урожай вики; так что здесь, как и везде, честность и твердое намерение выполнять принятые обязательства…
Да замолчи ты, ради всего святого! возопил Филипп; оставь на минуту свои бредни и послушай, что я говорю. Вспомни о том, что бывает с людьми во сне, столь похожем на смерть; вспомни, что рассказывают о знаменитом Гермотиме из Клазомен! Этот прорицатель и философ, учивший, что все в мире сотворено и упорядочено умом, имел душу, которая много раз «уходила из дому», как говорит Лукиан, и странствовала на большие расстояния, узнавая многое, что говорилось и делалось вдали, а затем, насыщенная знанием, возвращалась, чтобы наполнить и пробудить бездыханное тело Гермотима. Так продолжалось это, покамест жена не выдала его врагам, которые, придя, сожгли его тело, как делают с умершим, так что душе некуда было вернуться. Жители родного города возвели Гермотиму храм — взамен того сожженного дома, коего он лишился, — и постановили не пускать туда женщин в память о преступлении одной из них. Вот о таких вещах я говорю тебе, Квинт.
Я отвечал, что, возможно, с кем-нибудь и происходили такие вещи, чтобы ими можно было справедливо похвастаться; я же со своей стороны могу отозваться лишь словами Тертуллиана: «Сам я никогда не спал так, чтобы признать что-то подобное».
Предположи, сказал Филипп, что мир не исчерпывается твоим опытом; а теперь иди за мной дальше: вот, у сна есть, кроме смерти, еще одна сестра, называемая безумием («Хотел бы я видеть их общие фотографии, когда они собираются на семейные праздники», пробормотал я), а у нас есть право предположить, что их родство не ограничено очевидными вещами и что душа может выходить из безумного, как выходила из спящего.
Почему бы нет, сказал я.
Прекрасно, сказал Филипп: а теперь давай сделаем еще шаг и вспомним, сколь часто безумие причиняется отравлениями всякого рода: тут перед нами выходят на сцену и император Гай Калигула, которого, как говорят, Цезония, его жена, опоив приворотным зельем, вместо желаемого результата ввергла в безумие; и поэт Лукреций, который, равным образом впав в исступление от любовного питья, сочинял свою поэму в те часы, когда возвращался в разум, как свидетельствует Иероним в «Хронике»; и многие другие, о коих не стану я распространяться: однако чтобы насытить твою страсть ко всяческим историям, упомяну о компании молодых людей в Агригенте, у которых от вина, выпитого в таверне, так помрачился рассудок, что они вообразили себя терпящими кораблекрушение в открытой пучине и принялись выбрасывать из дому весь скарб, чтобы уменьшить осадку, а когда доставили их к судье (ибо они спа сали свою жизнь так ретиво, что разнесли всю корчму), они упали перед судейскими на колени и, называя их «мужи тритоны», заклинали быть милосердными и обещали за то воздвигнуть в их честь общий алтарь на суше, коли смогут счастливо ее достигнуть: судейские же всласть посмеялись их дурачествам.