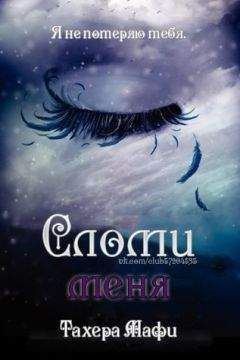Эти четыре слова пронзают меня сильнее, чем любая другая физическая боль.
Моя грудь поднимается и опускается, дыхание затруднено. Я должен заставить себя читать дальше.
Вскоре я понимаю, что на страницах нет никакого порядка. Она, кажется, немного сместилась в самом начале написания, и уже в конце блокнота стало понятно, что места больше нет. Она писала на полях, над другими параграфами крошечным и почти неразборчивым шрифтом. Есть числа, которые нацарапанные на протяжении всего, некоторые даже повторяются снова и снова, и снова. Некоторые написанные слова переписаны заново, обведены в круг или перечеркнуты. И почти на каждой странице есть предложения и абзацы, которые полностью перечеркнуты.
Это полнейший хаос.
Мое сердце сжимается при малейшем осознании, что это доказательства того, что она, возможно, испытывала. Я предположил, что она страдала все это время, запертая в темных, ужасающих условиях. И видя это, мне хотелось оказаться не правым.
А сейчас, когда я стараюсь читать все в хронологическом порядке, мне не удается понять ее способ нумерации страниц; систему нумерации, что создала она, сможет расшифровать только она сама. Я могу только просмотреть книгу и прочитать кусочки, которые наиболее понятно написанные.
Мои глаза застывают на определенном моменте.
Это странно — никогда не знать мир. Знать, что не зависимо от того, куда вы идете, убежища просто нет. Эта угроза боли всегда будет сопровождаться шепотом. Я не чувствую безопасности, запертая в четырех стенах, я никогда не была в безопасности, когда меня оставляли дома и не чувствовала ее на протяжении четырнадцати лет, когда я жила дома. Убежище убивает людей каждый день, мир уже испытывает страх ко мне, как и мой дом, где отец запирал меня в моей комнате каждую ночь, а моя мама кричала на меня с отвращением, из-за того, что вынуждена меня растить.
Она всегда говорила, что это из-за моего лица.
Она говорила, что было что-то в моем лице, чего она не могла выдержать. Что-то было в моих глазах, что, когда я смотрела на нее, меня словно и не существовало. Она всегда говорила мне перестать смотреть на нее. Всегда кричала из-за этого. Как будто я могла напасть на нее. Она кричала, чтобы я перестала смотреть на нее. Кричала, что я обязана больше не смотреть на нее.
Однажды, она поместила мою руку в огонь.
Она говорила, что это для того, чтобы увидеть будет она гореть, или нет. Увидеть — обычная ли это рука.
Тогда мне было шесть лет.
Я помню это, потому что это был мой день рождения.
Я опрокидываю блокнот на пол.
Моментально оказываюсь в вертикальном положении, пытаясь успокоить свое сердце. Пробегаю руками по волосам, останавливая их у самых корней. Эти слова слишком близки мне, слишком знакомы. История ребенка, который подвергается насилию со стороны родителей. Запертый и выброшенный. Это слишком близко к моим мыслям.
Я никогда не читал ничего подобного. Я никогда не читал подобного, что непосредственно обращается к моим внутренностям. И я понимаю, что не должен. Я понимаю, что это, так или иначе, не поможет, не научит меня ничему, не даст мне подсказку, где она могла бы сейчас быть. Я уже понимаю, что чтение этого сделает меня еще более сумасшедшим.
Но я не могу удержаться и вновь тянусь к ее блокноту.
Я повернул его и снова открыл.
Действительно ли я уже сошла с ума?
Произошло ли это уже?
Как я узнаю?
Мой интерком кричит так внезапно, отчего я спотыкаюсь о собственное кресло и оказываюсь возле стены, позади моего стола. Мои руки не перестают дрожать; лоб покрыт капельками пота. Моя перевязанная рука внезапно стала гореть, а ноги стали слишком слабыми, чтобы устоять на них. Я должен сосредоточиться, поскольку принимаю входящее сообщение.
— Что? — требую я.
— Сэр, я только хотел переспросить, все ли хорошо с вами. Собрание, сэр, если конечно я понял неправильно время, то я прошу прощения, сэр. Я недолжен вас беспокоить.
— О, ради Бога, Дэлалью, — я попытался унять дрожь в голосе. — Перестань извиняться. Я уже в пути.
— Да, сэр, — говорит он. — Спасибо, сэр.
Я прервал связь.
А потом, взяв блокнот и засунув его в карман, вышел за дверь.
Я стою на краю Квадранта и наблюдаю, как тысячи лиц устремлены на меня. Мои солдаты. Построенные в одну линию в своих униформах. Черные рубашки, черные брюки, черные ботинки.
Без оружия.
Кулак левой руки каждого прижат к сердцу.
Я прилагаю все усилия, чтобы сосредоточиться… на внимании и поставленной мною задаче; но мне это не удается из-за спрятанного в моем кармане блокнота, на который давит форма, а секреты его содержания мучают меня.
Я сам не свой.
Мысли запутались в словах, которые, к тому же, не являются моими собственными. Я должен глубоко вдохнуть, чтобы очистить голову; мой кулак то сжимается, то разжимается.
— Сектор 45, - говорю я, выступая непосредственно на площади в микрофон.
Они тут же переместились, откинув левую руку, и поместили правый кулак себе на грудь.
— У нас есть множество вещей, которые стоит обсудить, — говорю я, — и первая самая очевидная. Я машу рукой. Изучаю их выражения лиц.
Их изменчивые мысли так очевидны.
Они думают, что я не более чем простой невменяемый ребенок. Они не уважают меня; они неверны мне. Они разочарованы тем, что я стою перед ними; они злы; им противно видеть меня живим, а не мертвым от той раны.
Но они боятся меня.
Это все, что мне нужно.
— Я был ранен, — продолжаю я, — когда преследовал двоих сбежавших солдат. Адам Кент и Кенджи Кишимото сотрудничали в разработке плана побега, целью которого являлось похищение Джульетты Феррарс — нашего нового оружия и важного компонента Сектора 45. Им предъявлены такие обвинения, как незаконное похищение и удерживание г-жи Феррарс против ее воли. Но самое главное — они справедливо обвиняются предателями Восстановления. Когда они будут найдены — их казнят на месте.
Одно из самых простых чувств, которое можно легко прочесть — это страх. Даже на стойком лице солдата.
— Во-вторых, — на этот раз я говорю уже чуть медленнее, — в целях ускорить процесс стабилизации Сектора 45, граждан и предотвратить хаос, что был вызван в связи недавних событий, к нам присоединился Верховный Главнокомандующий. Он прибыл, — продолжаю я, — тридцать шесть часов назад.