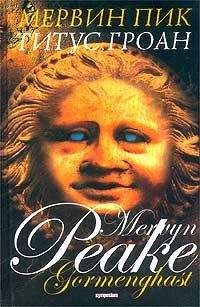Кида не испугалась, ибо существование сверхъестественного никогда не вызывало у Внешних сомнения. Теперь, десять часов спустя, она брела в ночи, и слова эти еще отзывались эхом в ее голове, и когда впереди вдруг вспыхнул, рассыпая красные искры, факел, Кида, застонав от усталости и облегчения, упала в объятия бурого старика.
Что с ней происходило потом, Кида не помнила, но, очнувшись, обнаружила, что лежит на подстилке из сосновых игл, вдыхая их жаркий, сухой, сладкий запах, а вокруг – деревянные стены избушки. Несколько мгновений она не поднимала глаз, хотя слова, услышанные на дороге, вновь зазвучали в ее ушах – Кида знала, что видит, и точно, взглянув, наконец, вверх, различила кровлю, сплетенную из речных камышей, и вспомнила о старике, и перевела взгляд на дверь в стене. Так она лежала, наполовину одурманенная сосновым ароматом, пока дверь не отворилась, медленно, и перед Кидой не предстала невиданная фигура. Словно сама Осень была перед нею или же дуб, отягощенный своею хрусткой, цепкой листвой. Бурый, да, но и переливчатый, точно темное сепиевое стекло, когда его держишь против огня. Косматые волосы и борода старика походили на колтунные травы; кожа имела оттенок песка; одежда спадала фестонами, подобная листьям на свисающей ветке. Все было бурым – симфонией бурого: бурое дерево, бурый ландшафт, бурый старик.
Он подошел к ней, неслышно ступая босыми ногами по земляному полу, вдоль которого ползучие растения рассылали на поиски приключений косвенные плети свои.
Кида приподнялась, опираясь на локоть.
Грубая вершина дуба качнулась, одна из ветвей жестом показала ей: ляг, – и Кида снова откинулась на сосновые иглы. Покой, словно облако, окутал ее, она смотрела на старика и знала, что перед ней существо, наделенное редкостным бескорыстием.
Старик отошел от нее медленной, плавной поступью и растворил ставни квадратного оконца, впустив в избу ровный свет северного неба. Затем он вышел из комнаты, а Кида осталась лежать, в безмятежности, и с каждой минутой мысли ее прояснялись. Постель ее, широкая и низкая, состояла из двух колод, подпиравших длинные доски, всего на фут приподнятые над полом. Киде казалось, что усталое тело ее плывет на волне из игл и каждая мышца вкушает покой. Даже боль в ногах, ободранных в дороге, и та плыла – плывучая боль, безликая, почти милая. Бурый старец накрыл ее тремя шершавыми одеялами, и правая рука Киды, проползая под ними, как бы в попытках понять, насколько это приятно – ползти отдельно от изнуренного тела, наткнулась на что-то твердое. Слишком усталая, чтобы гадать, что это, Кида, пособиравшись с силами, вытащила нащупанную вещицу наружу – то был белый орел.
– Брейгон, – прошептала она, и с этим именем к ней возвратились сотни неотвязчивых мыслей. Пошарив вокруг, Кида отыскала и деревянного оленя. Прижав изваяния к теплым бокам, она ощутила боль воспоминаний, но следом ее охватило новое чувство, родственное тому, какое испытала она, лежа близ Рантеля, и сердце Киды, поначалу неслышно, а там все громче и громче запело, точно лесная птица, и хоть тело женщины внезапно пронизала тошнота, птица все пела, не умолкая.
Столь бел и прохладен был свет в северном окне, что Кида поняла – одно только солнце и висит сейчас в небе, зимний день тих и безоблачен. Она не взялась бы сказать, ни какой теперь час, ни даже вечер ли стоит или утро. Старик принес к постели чашку с супом. Киде хотелось побеседовать с ним, но не сейчас, чары молчания, овладевшие ею, были настолько полны и красноречивы, что она поняла – со стариком никакие слова не нужны. Плывущее тело казалось чистым и свежим, оно покоилось на ложе из игл, словно лилия боли.
Кида лежала, прижимая к себе изваяния, поглаживая распрямленными пальцами их гладкие деревянные грани, и следила за тем, как из членов ее медленно истекает усталость. Проходили минуты, ровный свет заливал белизною комнату. Время от времени Кида приподнималась и погружала глиняную ложку в похлебку, и с каждым глотком к ней маленькими, плотными волнами возвращались силы. Когда чашка наконец опустела, Кида повернулась на бок и стала слушать, как с каждым минующим мигом сила растет в ней, отдаваясь легким покалываньем во всем теле.
И вновь подивилась она своей чистоте. Некоторое время усилие, которое следовало сделать, казалось ей непомерным, но когда она все же откинула одеяла, оказалось, что вся пыль недавней дороги смыта с нее. Ни грязи, ни пятнышка, ни следа последней кошмарной ночи – лишь тонкие царапины, длинные линии, оставленные цеплявшимися за нее шипами.
Она попыталась подняться и едва не упала, однако, набрав побольше воздуху в грудь, все-таки встала и медленно подобралась к окну. Поляна легла перед нею, густо заросшая сероватой травой, перечеркнутая отброшенной деревом тенью. Наполовину в этой тени, наполовину вне ее стоял, поводя из стороны в сторону тонким, чутким лицом, белый козел. Немного дальше за ним виднелось устье колодца. Поляна упиралась в заброшенный каменный дом, лишившийся кровли, черный от наросшего мха, преграждающий путь рощице голых ильмов, из которой лился согласный лепет скворцов. За рощицей Кида различила промельки каменной пустоши, а за пустошью – лес, карабкавшийся по круглым навершиям больших валунов. Кида снова перевела взгляд на поляну. Вот стоит белый козел. Он уже вышел из тени и приобрел сходство с изящной игрушкой, такой белый, с такими завитками волос, с такой снежной бородой, с такими рогами, с такими огромными, желтыми глазами.
Несколько времени Кида простояла, вглядываясь в эту сцену, и хоть она видела ее с совершенной ясностью – дом без кровли, тень сосны, кочки, оплетенная вьюнком решетчатая деревянная изгородь, – все это так и не впиталось ее сознанием, оставшись фантомом полудремотной истомы пробуждения. Куда реальнее были для Киды пение не считающейся со смертью ее любовников птицы в груди, да тяжесть в чреве.
Старение, ее наследие, неминучая участь Внешних, уже опустошало лицо Киды – разор этот начался еще при рождении первого ребенка, ныне лежавшего за огромной стеной, и теперь лицо сохраняло лишь тонкую тень былой красоты.
Она отошла от окна, взяв одеяло, завернулась в него и распахнула дверь. Другая комната открылась ей, примерно того же размера, но с обширным, занимавшим середину ее, столом, накрытым темно-красной тряпицей. За ним земляной пол опускался на три ступеньки, там, в дальней, более низкой части комнаты виднелся садовый инструмент старика, цветочные горшки и кусочки раскрашенного и простого дерева. В комнате никого не было, Кида, перейдя ее, вышла сквозь другую дверь на залитую солнцем поляну.
Белый козел, следивший, высоко подняв голову, за ее приближением, пробежал на тоненьких ножках несколько шажков ей навстречу. Кида пошла дальше и вдруг поняла, что слышит плеск текущей воды. Солнце висело на половине пути между зенитом и горизонтом, но Кида не смогла поначалу определить, утро сейчас или уже близится вечер, ибо невозможно было сказать, только ли еще солнце восходит с востока или уже клонится к западу. Всюду царил покой, солнце, казалось, замерло, став диском из желтой бумаги, надежно приклеенным к бледно-синему зимнему небу.