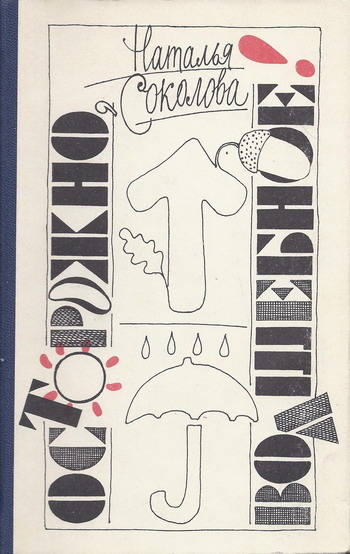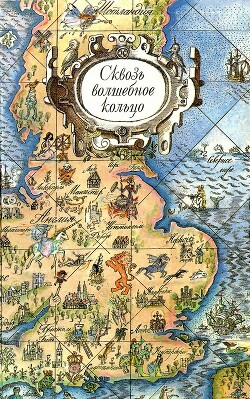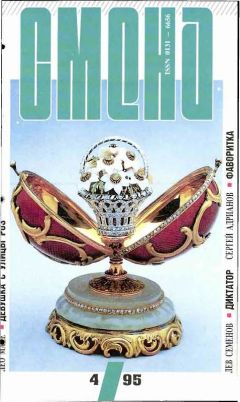бы нет, но в больших дозах надоедает, да и юмор бывает какой-то вымученный, надсадный. В театр Никита никогда не ходил, точно так же, как и его ближайшие товарищи, такого не было заведено; театральные спектакли по телевизору тоже его не заинтересовали, показались «ерундовиной». Какую-нибудь семейную драму, разыгранную солидным театром, смотрела одна мать, вздыхая и даже утирая глаза, умиляясь и негодуя, приглушив звук, чтобы не мешать мальчикам (она любое представление по телевизору воспринимала наивно и истово, как жизнь, самую что ни на есть натуральную жизнь, такую же густую и доподлинную, как у ее соседей по дому, сослуживцев, знакомых, и ухватывала только коллизию, суть отношений, совершенно не разбираясь, кино это или театр, античность или современность, Россия Островского или Англия Уайльда). А мальчики тем временем перемигивались, перехихикивались, и, пока мать всхлипывала над судьбой богатой девушки, которой не дают выйти замуж за бедняка, они подталкивали друг друга локтями, шептали: «Ж-жуткая дряма... Кош- шмарная история... Благор-родные чю-юства...»
Кино - это совсем другое дело. Без кино в наш век не проживешь. И как это, интересно, предки устраивались в допотопное докиношное время, куда такой докиношный предок приглашал девушку после того, как с ней познакомился? Темно и непонятно. Когда Никита и его приятели были школьниками, подростками, тяга к кино доходила почти до религиозного экстаза, господствовала над всем остальным. Они готовы были отсидеть хоть три сеанса подряд, смотря один и тот же фильм (были бы только деньги), жертвовали для этого мороженым и прочими прелестями жизни, вырезали из журналов фото любимых актеров и просовывали в окошечки своих спортивных сумок-мешков. Потом стали разбираться, оценивать хорошие и плохие фильмы, рассуждать о них, спорить (если было о чем спорить). Шкала отроческих ценностей вырабатывалась главным образом под воздействием кино. Основной силой кино была его удивительная всеобщность, вездесущность - новый фильм смотрели или могли посмотреть буквально все, причем в очень короткий срок, за неделю-другую. Такого глубокого проникновения во все поры общества не знал еще ни один вид искусства.
В последнее время Никита, впрочем, сильно поохладел и к кино. Картин много, всяческих, отечественных и заграничных, пропал азарт охоты за новинками, за всем все равно не уследишь, всего не пересмотришь. Случалось, пропускал такую, о которой много говорили,- и не убивался. Он избегал теперь серьезных, тяжелых картин («В жизни хватает серьезного»), особенно военных (болью отзывалась мысль об отце, а ряшки у молодых актеров, сидевших в окопчике, были сытые, холеные, только чуть измазанные, прически вполне современные, новомодные); стал чаще смотреть легкомысленные, с пением и танцами. «Ну и что? На отдыхе надо отдыхать».
Конечно, развращал и телевизор - смотришь кусками, с любого места, на любом выключаешь, идешь в ванную; смотришь вполглаза, чертя, читая, почесываясь и зевая, разговаривая, не ценя, не вникая; смотришь по многу раз одни и те же кадры, вроде они уже приелись, надоели до смерти, а из какого фильма и что к чему, так и не удосужился узнать. Отбивает охоту.
В течение многих лет Никита работал и вечерами учился,- может быть, поэтому у него не сложилась привычка читать, он не стал читателем. Кроме учебников и книг по специальности, кроме газеты «Советский спорт», журналов «Техника - молодежи», «Знание - сила» Никита иногда почитывал «приключенческую макулатуру» (как сам ее называл, снисходительно улыбаясь) или научную фантастику. Прочтя книгу, отдавал кому-нибудь и больше о ней не вспоминал. Изрекал, отчеканивал: «В наше время личные библиотеки - бессмыслица». Или: «Жизнь слишком коротка, чтобы к одной книге возвращаться дважды».
Знакомство Никиты с классиками, строго говоря, началось и кончилось в школьные годы. По-настоящему заинтересовала только «Война и мир». Но и к ней он больше не возвращался. Кто в этом был виноват? Классики? Век, время? Школьные учителя? Или просто тяготение к точным наукам? Трудные вопросы...
Склад характера Никиты, конечно, имел значение. И все-таки сыграла, наверное, свою роль и школа. В пятом классе - Никита хорошо запомнил этот день - еще не писали настоящих'сочинений, но прорабатывали планы, предназначенные для будущих сочинений. Шла речь о «Тарасе Бульбе», в плане было пять пунктов - не четыре и не шесть, но именно пять,- и последний пункт гласил: «Что общего и какая разница между Тарасом Бульбой и молодогвардеицами» (пишется без вопросительного знака; вопросительный знак считается за ошибку).
Что общего - это выяснили без участия Никиты Иванова, а ему досталось отвечать про разницу. Он встал, представил себе лица молодогвардейцев, к которым относился с восторженной мальчишеской влюбленностью, вспомнил картинки с Тарасом Бульбой (который сначала ехал в густой траве, а потом горел на костре) и сказал серьезно, простодушно, с полной ответственностью: «Их было много, а Бульба один. И потом, он был толстый».
Учительница, молодая, курносая и мелко-шестимесячная, с грубоватым румянцем и грубоватым словарем, наскоро выученная в военные годы в педучилище, хлопнула что есть силы ладонью по столу. «Садись, Иванов. Двойка». Никита, наголо обритый, как тогда полагалось, с коротковатыми рукавами старой школьной гимнастерки, посмотрел на нее круглыми удивленными глазами и сел, обиженно моргая, прикусив дрожащую нижнюю губу. Ему хотелось плакать. Разве он сказал что-нибудь неправильное? Разве на самом деле Бульба был худым? Оказывается, надо было отвечать так - и Тарас Бульба, и молодогвардейцы любили Родину (общность), но Бульба любил ее меньше, так как тогда была эпоха царизма (различие). Так - и только так! Вот этими самыми словами, а не иначе, не как-нибудь там по-своему, от себя.
Ребята становились старше, а их вопросы - серьезнее. Когда учительница дала тему для домашнего сочинения «Почему мне больше правится Рахметов, чем Базаров», Никита встал и спросил: «А как быть, если мне больше нравится Базаров?» Учительница, уже другая, старая, строгая, сухая, преданная идее порядка, поклонница четких ответов и каллиграфически написанных классных работ, объяснила, что должен больше нравиться Рахметов. Должен! Его несгибаемая воля, железная логика, исключительная твердость и настойчивость как бы предвосхищают... Стройный Никита, откинув со лба пестро-светлую прядь, стал горячо доказывать что-то свое, она его резко оборвала, высмеяла («поменьше надо думать о прическе»), оглушила авторитетами («Чернышевский был, конечно, не так развит, как наш Иванов, но он считал...»). И все это при девочках, с которыми не так давно объединились. Никита сел на свое место, зло сузив глаза, сжав побелевшие губы, с темным румянцем на скулах. Хотелось спорить, драться, отстаивать свое, хотелось сказать ей ехидно-спокойным голосом, что цитаты, которые она приводит, почему-то в учебнике выглядят по-другому, что ударения у нее часто неправильные, что нельзя