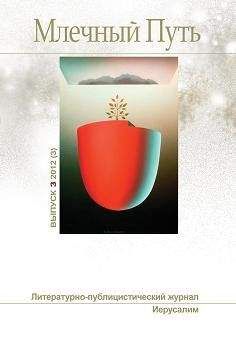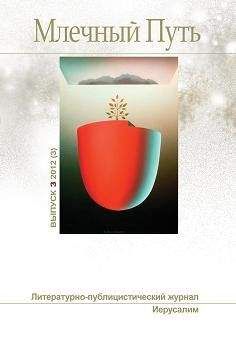Они умирают десятками в день под скелетами обглоданных деревьев. Возможно, это лучшая смерть, чем оказаться съеденными собственными отцами, братьями и мужьями.
Солдаты говорят:
– Жрать нечего, пойдем туда, где засели галльские бабы, хоть развлечемся.
Цезарь отдает приказ подвергнуть насильников бичеванию и отправить на кресты, как поступают с дезертирами.
Его суд вызывает недовольство и ропот, ведь брать женщин вражеской стороны это естественное право воина и не считается преступлением.
Недовольных Цезарь выслушивает лично и, не повышая голоса, велит отрубить им головы, водрузив на пики для устрашения остальных. Никакого возмущения он терпеть не станет.
Он знает, что его войскам несладко приходится, и люди пытаются отвлечься от тягот. Но те женщины находились на нейтральной территории, а Алезия пока не взята. Если не соблюдать никаких законов, мир станет обителью вечной Ночи, вышедшей из глубин Хаоса. Он сражается за единый римский порядок, а тем, кто не в состоянии соблюдать себя, не место в его армии.
– Это твои люди, которых ты привел с собой! – кричит Марк Антоний, защитник солдат, защитник кого угодно, кем движет животная природа.
– Это мои люди, – подтверждает Цезарь, – потому они не будут вести себя, как скоты, пока стоят под моими знаменами. В следующий раз я прикажу содрать с них кожу живьем.
– Им не хватает еды! Пустой живот перевешивает пустую голову.
Цезарь пожимает плечами и велит отдавать солдатам свой рацион. Он, наверное, готов умереть, чтобы доказать: дух в человеке должен быть сильнее всего. Его щеки ввалились, волосы поседели на висках, лоб расчертили глубокие морщины, в блестящих глазах пляшут демоны, или снуют туда-сюда мысли о расширении границ Республики или мелькают золотые отблески царского венца, точно Марк Антоний не знает.
Солдаты молятся, чтобы не началась эпидемия кровавого поноса, перекинувшись на них с галлов. По ночам они смотрят на огни Алезии, пытаясь подсчитать, сколько там еще осталось живых.
До римского лагеря доносятся женские стоны и детский плач, их не заглушает ни унылое треньканье дождя, ни скулеж ветра.
– Они не заткнутся, пока не передохнут! – осунувшийся Антоний почти не ест, поэтому пьет больше обычного, его язык заплетается, и плебейская вульгарность, за которую его презирают в Риме, вылезает вперед, расталкивая плечами приличные манеры. – Было бы милосерднее перерезать им глотки.
– Собираешься заняться этим лично? – спрашивает Цезарь сухо.
– Ну, не ты же будешь руки марать! Скажи только слово, я отдам приказ.
– Нет.
– Проклятье, почему нет?!
– Во-первых, я не мясник, – Цезарь принимается рассуждать размеренным тоном. – Во-вторых, Верцингеторикс выслал их из города не только для того, чтобы пресечь людоедство, но и потому, что хочет на меня надавить и сломить наш дух, но я не поддамся. И в заключение, у кого-то из них еще есть шанс выжить, если Алезия скоро сдастся. Я не хочу лишних смертей ни с одной стороны.
– Очень благородно, – шипит Марк Антоний, он взбешен и положением вещей, и тем, как Цезарь с ним объясняется, словно учитель перед доской, пытающийся втолковать азы арифметики тугодумному ученику. – Но почему мы-то должны терпеть?!
– Потому что я так сказал, – отвечает Цезарь невозмутимо.
Чудно, но это лучшее обоснование, что Марк Антоний слышал в жизни. Не только потому, что приказ есть приказ. Приказы нарушаются. Просто, когда Цезарь говорит, его слушаются.
Но Антоний разъярен, и измотан, и опасается бунта, который придется давить, казня собственных легионеров, единственных во всем свете людей, за кого он чувствует ответственность.
Он не понимает Цезаря, чем дольше знает, тем меньше понимает, наверное, потому, что слеплен на другой лад, его тесто – грубого помола, его покрой – на два прямых шва, он хватает удачу за загривок, а жизнь тянет на себя, как портовую шлюху, поэтому солдаты так его любят, ведь он ничем не отличается от них.
Цезаря легионеры называют богом, поэтому разрешают ему карать, ведь это право богов.
Цезаря они называют отцом, ведь он голодает вместе с ними и рубится в рукопашной в гуще сражения, где трупы вырастают из напоенной кровью земли.
Марк Антоний пытается разобраться, почему верен Цезарю, но думать на пустой желудок, когда звенит в ушах, а в отдалении воют галльские суки и щенки, слишком сложно. Что поделать, война – неприятная работенка, сытная еда и теплая лежанка с мягкой бабенкой под боком будут в Риме, если удастся выбраться из чавкающей грязью варварской дыры. А пока – жив, и хвала богам, он всегда чувствует себя живым на войне, когда пыхтящая в затылок смерть натачивает все твои чувства, как копье.
Он направляется в барак, чтобы проведать раненых. Заходя внутрь, старается не выдать охватившего его отвращения. Пахнет потом, кровью, испражнениями и сладковатым гноем. Застоявшуюся вонь не перебивает даже травяной дурман лекарственных снадобий.
Антоний ходит между лежанками, разбрасывая без разбору улыбки и подбадривающие слова. Тому парню с отпиленной ногой, они уже не помогут, – культя посинела и раздулась от «священной лихорадки» {13}. Ночью изойдет жаром, к утру помрет.
Выйдя из барака, Антоний с облегчением вздыхает, алчным ртом отрывает от свежего воздуха большой ломоть. Коротко молится про себя, чтобы в случае смертельной раны не мучиться долго, встретиться поскорей со стариком Хароном, переправиться через огненную реку Флегетон и воровато отхлебнуть глоток Леты, пока никто не смотрит. Участь праведников ему вряд ли уготована, придется самому постараться, чтобы прорваться на Елисейские поля, к посмертному счастью. Про поля, конечно, греческие басни, но вдруг?
– Интересно, куда Цезарь попадет в царстве Плутона? – гадает он. – А кто его разберет.
Ночь сырая, водит по хребту холодными пальцами, сухой снег царапает кожу. Спать совсем не хочется. Антоний затягивает подбитый мехом плащ, надетый на две шерстяные туники, и садится у костра с парнями из Тринадцатого легиона, щедро деля с ними флягу. Хорошее вино давно выпито, осталась добытая в захваченной деревеньке прокисшая галльская дрянь, но никто не придирается.
Легионеры смотрят на него не как на бога, а как волки на вожака, уважают, но не боятся шутить и высказывать мысли в его присутствии. Что еще нужно-то человеку, а?
Когда хмель гудит в крови, Антоний готов обниматься с ними, и он не против того, чтобы война продолжалась вечно. Война – грязная, грубая, орущая срамные песенки дурными голосами, вываливающая наружу кишки из вспоротых животов, жмущаяся к кострам, сводя непохожих друг на друга людей, соединяя их близостью, невозможной в