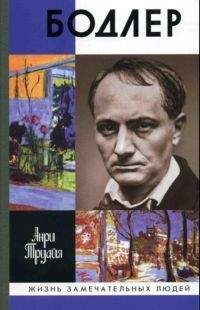Когда он снял котенка, лицо его светилось, точно он прижимал к груди родного сына. Бормоча что-то ласковое, пошел с ним на крыльцо к стоявшей там хозяйке, а я отправился своей дорогой. Зайдя в знакомый лончонет, я сел к стойке на вертящийся стул, заказал сандвич и в ожидании пока его приготовят, углубился в газету.
— Да, котенок для меня священное животное, — услышал я над самым ухом.
Это был тот же незнакомец. Он уселся рядом и тоже заказал себе еду. Я не любил этой манеры, не представившись и не выполнив полагающихся форм вежливости, заводить разговор с первым встречным, как с приятелем, но он, не замечая моего недовольства, продолжал как ни в чем не бывало:
— Мне было тогда не больше шести лет. Дело было в деревне. Я целыми днями носился с игрушечной саблей, рубил крапиву, колол направо и налево и с каждого прохожего готов был содрать скальп. И вот, какая-то баба приносит котенка: — не утопишь ли? Я ответил, что индейцы никого не топят, только убивают. — Ну, убей. — Убедившись, что мне, в самом деле предстоит совершить убийство, я испытал такую же дрожь и нетерпение, как четырнадцатилетний подросток на первом тайном свидании с женщиной. Отправившись в поле и неся в одной руке котенка, а в другой палку, я был от счастья, как в тумане. Но выбрав место казни и опустив жертву на землю, почувствовал себя в положении кучера, у которого лошадь не двигается с места, сколько ее ни бей. Как начать? Котеночек, пошатываясь на крошечных лапках, был, по-видимому, бесконечно рад траве, жучкам, Божьим коровкам. Потом поднял мордочку и посмотрел на меня синими, как искорки, глазами. Тут я выронил палку и бросился бежать.
— И что же дальше? — вырвалось вдруг у меня.
— А дальше, стыд и сознание собственного ничтожества заставили остановиться, не добежав еще до деревни. Как так? Не пристукнуть жалкого котенка?.. Набравшись опять воинственного пыла, я поворотил назад. Котенок охотился за бабочками и не умея еще ходить, пытался прыгать по-тигриному. Хотя я снова взял палку, но окончательно понял, что ударить не в силах. Я был в отчаянии. Сам не знаю, как мне пришла мысль закрыть глаза и бросить палку наугад. Так и сделал. Взглянувши увидел, как котенок с чуть слышным стоном катался клубком по земле. Кровь из носа… Это был мой первый ужас в жизни. Прибежав без памяти домой и боясь попасться кому-нибудь на глаза, я забился сначала в хлев, потом на сеновал. И вот мне, как всякому убийце, захотелось посмотреть на свою жертву. Украдкой пробрался к месту преступления и не нашел ничего, кроме палки. Где же котенок? Иду опять в деревню и вижу возле гумна: — плетется бедный, а кровь на носике запеклась и почернела. Жив! Жив! Тут я почувствовал такое спадение вериг, какого ни один святой угодник не испытывал…
Я взглянул на рассказчика и подивился жесткости его лица, так мало подходящего к тому о чем он говорил.
Подали сандвичи. Поевши и выпивши кофе, он совсем другим тоном спросил:
— Вы, кажется, знакомы с Еленой Густавовной Ольховской и живете неподалеку от нее?
Я раскрыл рот.
— Откуда вы знаете?..
— Знаю, — усмехнулся он. — Так вот, если будете, передайте поклон от Прутова. Скажите, что приезжал не надолго, зайти не мог, но когда-нибудь навещу непременно.
Он повернулся на своем стуле и вышел не попрощавшись.
* * *
На другой день я был у Ольховских и видел Елену Густавовну. Я всё еще продолжал считать вчерашнего рассказчика болтуном и приставалой, но страшно хотелось знать, каким образом знаком он с нашей величественной Еленой Густавовной. Пока я разговаривал с ее сыном, она патриархально сидела в кресле и вязала.
— Вам, Елена Густавовна, Прутов кланялся.
Она не выронила работы из рук и не вздрогнула, но я видел, как ее точно обухом хватили по голове. Пальцы стали делать бессмысленные движения, ничего общего с вязанием не имевшие. Прошла длинная минута, прежде чем она смогла вымолвить:
— Да? Где вы его встретили?
— Здесь, в Квинсе. Он жалел, что не мог быть у вас, потому что приехал на один только день.
Она ничего больше не спросила, но щеки ее провалились и видно было, как челюсть ходуном ходит под плотно сжатыми губами.
— Ты нездорова, мама? — спросил сын.
— Да. Отведи-ка меня на диван.
С тех пор не проходило дня, чтобы я не думал о незнакомце.
Через месяц снова услышал его голос, совсем рядом, когда сидел в кафе.
— Ну, вот, довелось еще раз свидеться!
— Ах это вы? Послушайте! — обратился я к нему без всяких предисловий. — Что у вас такое с Еленой Густавовной? Ваше имя бросает ее в дрожь.
— Вот как?.. И тяжело это у нее?..
— Первый раз, три дня ходила сама не своя. Потом, когда недели через две я снова заговорил про вас, закричала не своим голосом: «Что он подсылает вас ко мне, что ли?.. Чего вам от меня надо?..»
Он достал платок, вытер лоб и растерянно уставился на букет искусственных цветов, украшавших стол.
— Бедная!
— Ей, должно быть, есть чем помянуть вас, — попробовал я усмехнуться.
— К сожалению, да. И, конечно, не добром, хотя добра я ей сделал не меньше, чем зла.
— А зло было?
— Да еще какое!
Он отхлебнул кофе, помолчал и вдруг повернулся ко мне.
— Ведь я ее бил.
— Елену Густавовну?!
— Да. Никогда не забуду, как привели ее ко мне на первый допрос. Брезгливые губы, надменный подбородок… Увидела меня — усмехнулась. Так вот здесь кто?! А я ей хлясь по физиономии, да в другой раз. Сначала она просто онемела и стояла ничего не соображая. Ее, урожденную баронессу Визиген, жену полковника Ольховского, трижды георгиевского кавалера, бьют!.. Да не как-нибудь, а наотмашь, погано, как пьяную бабу.
Я ошалело уставился на собеседника.
— Как она не умерла и не сошла с ума в ту минуту — не знаю. Только ясно было, что гордость ее не сломлена и оттого я еще в большую ярость пришел — топал ногами, обзывал, как только мог. Отпустил, когда увидел, что ничего больше не соображает. Велел отправить в одиночку и следить, чтобы не повесилась.
— Позвольте, позвольте!. Это так ошеломляюще!.. Когда же это могло быть?
— Вы еще пешком под стол ходили… В восемнадцатом году. Осенью. В Петрограде.
У меня немного отлегло. Я таких видел, С полдюжины жен Тухачевского, десяток собутыльников Есенина; встретился даже приятель Канегиссера, у которого на квартире тот заряжал револьвер, перед тем, как идти убивать Урицкого.
— Вы, верно, были очень важным лицом?
Он дал понять, что видит мою насмешку.
— Важным — не важным, а кое-каким был. По крайней мере, настолько важным, чтобы свести с небес такую богиню, как Елена Густавовна. Впрочем, тогда это было совсем не трудно. Да и богиней она была не по чину. Всего только полковница, а нос задирала по-генеральски. Есть такие люди. Ненавидел я ее!.. Спал и во сне ненавидел. Знакомы мы еще до революции. На Гулярной улице жили. Мы с матерью внизу, а она над нами, чуть не весь этаж занимала. Квартира в коврах, в пальмах, канарейки летали по комнатам. Из всех жильцов дома, одного только профессора Редьковского, да генеральшу Звягину удостаивала вниманием, остальным едва кивала головой, а с матерью моей и со мной не здоровалась, даже после февральского переворота, когда у таких господ спеси поубавилось. Помню, как-то раз, летом семнадцатого года, пришел я к ней по домовому делу, так она меня, как кухаркина сына, минут десять заставила простоять в прихожей. Вышла в розовом капоте. «Что вам?..» А мне тогда уже девятнадцать лет было и я реальное училище окончил. Припомнил я ей этот прием! Иногда кажется, что и в чекисты-то пошел из-за нее. Во всяком случае, арестовал ее чуть не на другой же день после своего поступления туда.