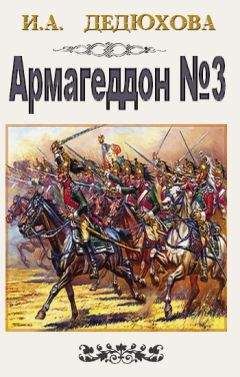Циферблатов аккуратно положил трубку на аппарат и вытер вспотевшую лысину большим носовиком, вышитым гладью арестантками БУРа — барака усиленного режима. С тяжелыми мыслями Поройков ждал решения своей участи. Дернуло же его о систематическом избиении контингента вопрос на партактиве поднять… Из-за мамки ведь поднял. Мать-то шибко верующая всю дорогу была, хотя саму столько жизнь била, что давно можно было во всем разувериться. Все за бога цепляется, глупая баба, а чем он ей помог? В каждом письме просит никого не бить, пожалеть судьбою обиженных… Дура.
— Дернуло же тебя, Поройков, об этих зэках вопрос на партактиве поднять! — зло откликнулся на его мысли Циферблатов. — Чуть ведь не испортил мне все! А если бы я выложил загашники, которые на тебя собрал? Чистеньким решил в ВОХРе служить? Да я давно бы тебя в штрафбат отправил, но у нас некомплект стрелкового состава 34 человека. Только потому и терплю все твои родимые пятна капитализма. Со скрипом терплю! А если бы я на партактиве вот этим козырнул? Что вылупился? Не ожидал?
Поройков действительно не ожидал увидеть в руках Циферблатова это письмо. Письмо пожелтело, края измахрились. Чувствуется, Циферблатов давно таскал его в кармане гимнастерки. «Что же ты, Мария Спиридоновна? — тоскливо подумал Поройков о почтальонше, всегда казавшейся ему такой порядочной. — Что же ты продала-то меня, как падла? Как же теперь эти попы будут письма своим попёнкам слать?»
— Тебя не почтальонка продала, не боись, — со смешком перебил его невеселые размышления комендант. — В Мариинске на сортировке вашу цидулку выудили. Все знают, что наш контингент лишен переписки на три года! Кому здесь в Москву-то писать, сам подумай башкой. Чукчам или корякам? Они, поди, и писать-то не умеют. От штрафбата твою поганую шкуру, дорогой партийный товарищ Поройков, спасло только то обстоятельство, что все, кто поповское письмо читал, с хохоту животики надорвали. Насмешили вы всех с этим исусиком до колик!
«Дорогие мои, любимые Таня и крошки мои Боренька, Ляленька, Танюша и Алик! Истерзался душевной болью, не имея от вас никаких известий. Измучился и утомился тревогой о вас. Сейчас работаю физически, тяну копер среди удивительно красивого леса. Свистят красногрудые птички, щелкают соловьи, много замечательно красивых цветов. Тоска моя растет о вас, любимые, очень тоскую и без дорогого для меня дела. Не знаю, увижу ли тебя, Таня, будет ли это счастье. Сменяется здесь погода часто: то жаркий весенний день, то снежная буря. Третьего дня целый день шел снег, разводили костер, а птички грелись вместе с нами у него и садились к нам на руки. Сегодня я видел черного, похожего на ласку зверька, появились большие желтые бабочки и махаоны. Еще хочу тебя, Таня, успокоить. Кормят здесь на удивление вкусно и питательно. Каши замечательные, супы и даже макароны с тушенкой. Родимые, дорогие мои, многое бы я дал, чтобы хоть один раз взглянуть на вас. Живу надеждой свидеться с вами. Всем передавайте мой привет и мою любовь. Горячую благодарность мою передай Марье Христиановне. Храни вас Господь. Твой С. С. Привет твоей маме».
— Из-за этого письма, Поройков, надо мною даже в Новосибирске теперь смеются, — почти добродушно заметил Циферблатов, растирая виски. — На совещаниях комендантов так и спрашивают: «Вы тот самый Циферблатов, который попов макаронами кормит? Ну, и дальновидный же ты хмырь, Циферблатов!» Все ржут. Весело всем… Знали бы, с какими идиотами в ВОХРе здесь веселиться приходится… Короче, вали-ка ты, поповский обожатель, в Подтелкино! Сам ведь, вроде, из тех мест будешь? Вот и вали в ОЛП N45 с подконвойными… Нам здесь вдвоем не ужиться, Поройков. Суку свою забирай и вали. Давай-давай! На сборы — два часа! В дорогу!
— Товарищ Циферблатов! Не могу я… И вообще не положено… без напарника… До Владивостока еще, — ныл мужик неопределенного возраста и ничем не примечательной наружности в форме проводника Российских железных дорог. Ныл он, похоже, уже давно, поэтому сидевший напротив него плотный жизнерадостный начальник смены начинал терять терпение.
— И кто туды поедет-то — из Калининграда во Владивосток? На кой хрен туды ехать кому-то, да еще в прицепном вагоне? После начала отопительного сезона, а? В этом Приморье ведь опять, поди, нет ни тепла, ни электричества… Нет, не могу я, товарищ Циферблатов! Опять без премии в пустом вагоне тащиться, — бубнил проводник, тиская фуражку.
— А вот здесь ты не прав, Петрович. Одно купе уже продано. Два пассажира едут, но взяли целое купе, просили никого не подсаживать.
— Опять двадцать пять! Они же точно педики! И зачем им только билеты продают! — взвыл Петрович.
— Тебе чего, Петрович, завидно? Может, люди культурно ездить любят! Без всяких рож, вроде твоей!
— Кто культурно любит, тот «Аэрофлотом» летает, а не пилит в прицепном вагоне через всю страну!
— А мне вообще фиолетово… эти твои рассуждения! Поедешь — и все дела! Привык он, понимаешь, через Мамоново по всей Польше кататься! Не все коту масленица. Слышал такую поговорку? Одно купе у тебя уже есть, и сколько еще у нас купе в вагоне, мы с тобой, Петрович, хорошо знаем. Вагон будем цеплять к маршрутам, пользующимся спросом у нашего с тобой, Петрович, населения. Бригадиры тебя, зараза, проверять будут, я по линии передам. Прикинь, какую денежку за один рейс нагребешь, чудак-человек! Потом на польской железке королем прокатишься! Не забудь — сорок процентов! На Горьковской дороге давно уже пятьдесят пять и два бригадиру! С тобой как с человеком говорю, гамадрил! Собирай манатки и брысь в вагон! Я еще разберусь, почему это ты вдруг «не можешь»!
— А чо сразу орать-то?
— Сразу? Я время засекал! Ты мне тридцать семь минут мозги компостируешь! Если мне все так начнут, у меня от мозгов хрен сушеный останется! — заорал Циферблатов.
Проводник, продолжая вертеть в руках фуражку, безучастно изучал глянцевый рекламный плакат Калиниградской железки, висевший за спиной начальника смены, наискосок от портрета гаранта Конституции. Все эти областные дырки и полустанки были изъезжены Петровичем до кровавых мозолей. Черняховск, до 1946 года Инстербург… С остатками двух замков XIV века… И никто ведь не спросит, что у него, может, дома Кирюша сидит второй день не кормленный. Ничего не меняется, всем с прибором на личные проблемы поездного состава. Светлогорск, до 1946 года Раушен… Климатический и бальнеогрязевой курорт федерального значения… Уникальная дендрариумная коллекция… Зимой-то, конечно, повсюду хреново, даже в бывшей Европе. Но тащиться отсюда во Владивосток… Может, сразу в Ладушкин рвануть, до 1946 года Людвигсорт, с крупнейшей психиатрической лечебницей бывшей Восточной Пруссии? Или у него уже шиза на роже нарисована, что его так послать можно? Главное, легко! Катись-ка, Петрович, отсель… хоть во Владивосток!