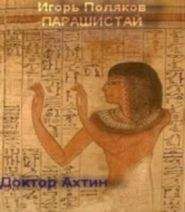Богиня ведет меня за руку. Я знаю, что когда придет время, когда придет осень, на мне будет теплая одежда и обувь. Пока же надо решить ближайшую задачу, — оторваться от потенциальных преследователей.
Я иду и вспоминаю. Это отвлекает от грустной реальности, словно я разговариваю с незримой собеседницей о том, что было в прошлом плохого и хорошего. Я вспоминаю свои детские годы, когда еще не до конца понимал, что произошло в зимнем лесу. Когда полностью не осознал значимость события, основным проявлением которого был свет далеких фонарей.
Я возвращаюсь к тому событию, которое навсегда отпечаталось в памяти, и которое я старательно пытался забыть. Конечно же, ничего не вышло, я не смог забыть, я всего лишь закрыл этот случай в дальнем тайнике памяти. Спрятал от самого себя, словно я играю в прятки со своим сознанием.
Я прекрасно помню, как мама вернулась после месячного отсутствия, — она уезжала в санаторий по путевке. Мне шесть лет. Я провел все лето во дворе и в близлежащем лесу, практически не вспоминая про отсутствие мамы. И вот — теплые руки мамы, счастливые глаза, в которых радость от встречи с сыном, она прижимает меня к себе, говорит о том, что скучала. А я вижу перед собой чужую женщину. Нет, где-то в глубине сознания я понимаю, что это моя мама, разум мне говорит, что никем другим она и не может быть, но — вдыхая изменившийся запах, чувствуя странное тепло тела, и ощущая необычную дрожь пальцев, сжимающих мои плечи, я думаю о том, что это не может быть моя мама. Нет, это не она. Ту маму, которая живет в моей памяти, я не спутаю ни с кем. Наверное, я улыбаюсь, пытаясь принять эту действительность. Наверное, я что-то говорю в ответ на её слова. Сейчас, конечно же, я не помню те мелочи и нюансы, которые заставили мои интуицию всё запомнить. Да, и не важно.
Ощущение чужеродности, идущее от родного тела матери.
Наверное, именно тогда я впервые столкнулся с иррациональным злом, которое почти невозможно победить. Тогда я не понял этого, — я был слишком мал, чтобы понять простую вещь: раковая опухоль, поражая организм, слишком много изменяет в процессах жизнедеятельности. Я еще не осознавал свою суть и свой дар, чтобы понимать и бороться. Я был мал не только ростом, но и сознанием.
И меня уже держала за руку Богиня.
Зачем мне пытаться что-то понять, когда есть та, которая ведет к свету далеких фонарей. И пусть мне еще шесть лет, где-то там, глубоко в голове уже созревает мысль — а зачем мне та, которая не знает, куда идти?
Мама или Богиня? Уже тогда мне надо было выбирать, и, мне кажется, я сделал этот выбор. Все эти годы я старательно прятал от самого себя простую истину, — это я виноват в смерти матери. Нет, конечно же, она курила всю свою сознательную жизнь, она не обращалась в поликлинику к врачам и не посещала флюорографический кабинет, она не заботилась о своем здоровье. Но — уже в шестилетнем возрасте я мог понять, что грозит маме. И мог хотя бы попытаться что-то изменить.
Однако я сделал свой выбор и постарался забыть то, что почувствовал. Я заставил себя поверить в то, что не мог в том возрасте понять и осознать. И улыбался маме так, словно ничего не произошло.
Однако я мог.
И должен был.
Теплая рука Богини и свет далеких фонарей, как мираж, который манит к себе и заставляет забыть ту реальность, где живут близкие тебе люди.
Хотя, возможно, я предъявляю себе слишком жесткие требования. Кто в шесть лет способен принимать такие важные решения? Может, я просто гипертрофирую те события? Может, я просто играю со своим сознанием и памятью в странные игры, где я сам себя загоняю в клетку, из которой нет выхода.
Хотелось бы верить, что я что-то забыл, что-то придумал, и за давностью лет, просто воздвигаю воздушные замки на песчаном пляже: сейчас со стороны моря налетит ветер, и разгонит чудовищные нагромождения в моем сознании.
Хотелось бы верить…
Сосновый бор заканчивается. Впереди неглубокий овраг, по дну которого бежит маленький ручей. Далее на том стороне оврага снова смешанный лес. Это именно то, что мне надо. Я спускаюсь вниз и сначала пью холодную чистую воду. Пью с удовольствием, загребая жидкость обеими руками, как ковшом. Наслаждаюсь прекрасным вкусом лесного ручья. Умывшись, и ощутив прилив сил, я иду дальше прямо по ручью. Начинает накрапывать мелкий дождь, который, судя по всему, будет идти весь день.
Пусть на время, но если по следу идет собака, то она потеряет мой след.
Пусть на время, но я хочу не думать о том, что я сам придумал свет далеких фонарей в темном зимнем лесу.
4.
Они вышли вчетвером. Кинолог с овчаркой, которая легко взяла след, и бежала впереди, натягивая поводок. Двое бойцов спецназа — лейтенант и рядовой. И капитан Ильюшенков.
Солнце еще не встало, они легко бежали в рассветных сумерках, и молчали. Капитан думал о том, как бы сделать так, чтобы у него была возможность на законных основаниях просто убить Парашистая, а не догнать, поймать и передать дело в суд.
Лейтенант думал о девушке, с которой вчера познакомился, и договорился встретиться сегодня вечером. Рядовой просто радовался тому, что он сейчас в лесу, пусть даже у него за плечами рация, а на плече автомат Калашникова.
А кинолог — сержант Коротаев — внимательно смотрел по сторонам, замечая те мелкие детали, по которым можно было понять состояние преследуемого преступника. И если в самом начале он предположил, что беглец действительно ранен, то примерно через полчаса он понял, что рана у него пустяковая. Однако пес по имени Дориан легко бежал, практически ни разу не потеряв след, и это вселяло в него осторожный оптимизм, — возможно, через несколько часов они смогут догнать преступника, а там уже работать будут спецназовцы, и этот капитан со злыми глазами.
— Дориан! Сидеть! — подняв руку, скомандовал сержант.
— Что такое?
Капитан Ильюшенков замедлил шаги и встал у поваленного дерева.
— Он здесь лежал, — сержант показал рукой на траву, — правда, совсем недолго.
Капитан посмотрел на указанное место, — да, трава слегка примята, но это практически невозможно заметить.
— И вот еще, видите там нитку. Скорее всего, он оторвал кусок ткани от одежды и забинтовал рану. Потом встал и побежал дальше. И это плохо.
— Почему?
— Рана у него пустяковая, — сказал сержант Коротаев, — если в самом начале по следам было видно, что он слегка прихрамывал, то затем он бежал нормально. Здесь он лежал не больше десяти-пятнадцати минут, а потом двинулся дальше, и я опасаюсь, что шел по лесу всю ночь. Следовательно, фора у него около шести часов.
— Блин! То есть до вечера мы его можем не догнать! — разочарованно простонал лейтенант.