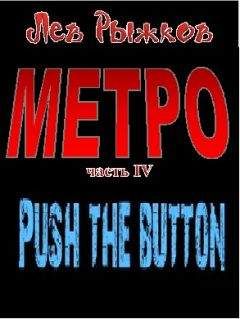— Привет…, Му-Му… Как спалось? — мой тон, наверное, не обещал ему ничего хорошего, потому что этот Гулливер сдавленно мемекнул, резво перекатился на живот и попытался задать стрекача на карачках. Однако тут же рухнул обратно, подвывая от боли.
— Ножки у нас болят, бедные мы, бедные… — я усаживаюсь ему на спину, не спеша приставляю к его загривку «шильце» и слегка нажимаю.
Проколотая кожа выпускает первую, красную и липкую слюну страха, а я продолжаю осторожно давить, еле заметно ворочая всем телом ножа… Мужлан нервно дёргается. И тут же начинает всхрапывать часто-часто, мелко-премелко дрожа всем телом, каждой своей клеточкой. Его выгибает дугой, — руки и ноги назад, глазёнки закатываются так, что видны одни лишь мутные белки.
Светает… Эх, хорошо-то как, душевно…
…Его словно колотит электричеством, с особым тщанием подобранным разрядом, рассчитанным виртуозом пыток так, чтобы амплитуда дрожи напоминала сыплющееся из мешка с треском на пол пшено…
…Я немного, на миллиметр, отпускаю нож, ослабив и без того мизерное давление, и он «опадает», как издохший на столе кухни сазан. Из глотки рвётся на высокой, почти нереальной ноте, мощный сип. Это пытается начать циркулировать воздух в сжавшихся с муравьиную письку лёгких.
Так, в невыносимых муках, кричит на пределе сил пичуга, схваченная в сосенном лесу прожорливой сойкой.
— О, о… Чего ты распелся? Неужели так всё погано? Хотя да, согласен. Гадко. Так вот… Одно неправильное слово, или ещё одно подобное дурацкое движение, — и снова будет очень, очень больно, гусёнок ты мой… Если согласен подписать капитуляцию, не надо кивать, а то тут же будет плохо. Просто прикрой веки. Мы договорились, яхонтовый ты мой?
"Оперируемый" мною смог даже моргнуть далеко не с первого раза. Сильнейший временный паралич — это вам не кило конфет одному сожрать. Тут и поперхнуться недолго.
…У основания нашего черепа есть особый стык позвонков, попав в который точно и осторожно, можно вытворять с человеком такое, что истории про зомби покажутся вам чтением древней прокоммунистической газеты, не более.
— Потрясающая понятливость. Так, немцы в деревне есть? — жертва недоумённо выкатывает глаза. — Отставить вопрос! Рекомендую отвечать очень тихо, сжато и "по понятиям". Меня интересуют двое. Пленные, что пришли из города. Они здесь?
— …еет… — этот придушенный хрип нельзя назвать шепотом, но я понимаю.
— Хорошо. Перефразирую вопрос: они были здесь?
—..аа…
— Не понял?! Больно, что ли?
— Тааа, ы-ы…ы…ыыли… — ну, это уже более внятно.
— Ух ты, какой мне говорливый боров сегодня попался… — мне невыносимо хочется причинить ему вселенские страдания. Но он пока мне нужен.
— Где они сейчас? — моя собственная рука не в силах сдерживаться…
Этот «гондурасец» молчит?! О, великий и желанный миг…
Движение в сторону… ещё одно!
— Гхыааа-аааррхааа!!! Ооарррргхххууаа. ккххыыы…ауггххххы… — из последних сил пузырится серой тягучей слюной мой новый знакомец.
— Что?! Не въехал я…, поясни, пожалуйста?! — лёгкий "укол зонтиком".
Людоед теперь даже не пищит. Он «хрюкает», пронзительно «ржавея» рвущимися в резинку от трусов трахеями, словно недельный поросёнок, впервые пытающийся заголосить, призывая в истерике мамку с сиськой.
Крови на утоптанном снегу немного, но его патлы и мои перчатки извазганы ею, — густой и быстро подсыхающей на щиплющем морозце, делая его и без того сальную шевелюру похожей на ошпаренного ежа.
Она зябко пахнет, — прогорклым и кислым нутряным жиром, — и к этой кислоте примешан жар животного ужаса, вырывающегося наружу с каждой каплей этой маслянисто-чёрной, почти оливковой жижи, так неохотно выглядывающей на пугающий её Свет…
У парня крайне безобразное состояние здоровья: налицо повышенная свёртываемость крови и неприлично высокий уровень холестерина…
Я доктор, кто болен?
…Его начинает размашисто, словно в припадке падучей, колотить о землю, и мне стоит немалых трудов следить за рукой, «гоняя» её туда-сюда вместе с его вонючим телом. Он словно старается, а я упорно ему не даю оборвать ту скрипичную по толщине струну жизни, на которой он сам же и висит над разверстой пропастью… В которой бродит, ныряет само в себя, издавая трубные звуки разочарования и жадно, плотоядно вздыхает о его теле, — о своей вожделённой пище, — остро-серое, колючее Ничто…
Но я цепко держу его. И не отдам тебе, чудище бесплотное, пока он нужен мне. Лишь после меня ты сможешь вдосталь насладиться пиршеством над его лохмотьями…
Я всегда втайне гордился своему умению пытать, и ни один ещё не умер на моём гостеприимном "ложе призрачного счастья". Но говорили… О, говорили, и даже пели, все…
…А посему ты или ответишь мне как надо, пидор, или я проведу тут остаток этой распроклятой ночи, и ещё два полных дня, чтобы ты в полной мере вкусил и других «апельсинов» от древа страданий!
Клянусь тебе собственным мировоззрением…
После этого, если ты подохнешь, к тебе даже подходить будет страшно, чтобы прикопать…
Даже твои кореша-людоеды ударятся в покаяние до конца дней.
Или я — не Гюрза, мля буду!!!
— Тихо, тихо, нечисть осклизлая… — я даю ему второй шанс. Шанс реабилитироваться перед лицом Боли.
КАК-ТО НЕЗАМЕТНО ДЛЯ САМОГО СЕБЯ ЕГО ПЕРЕКОШЕННОЕ СТРАДАНИЕМ ЛИЦО ВТЯГИВАЕТ МЕНЯ В СЕБЯ, СЛОВНО ГУБКА ВОДУ…
Нет!!! я ещё не закончил…
Погоди, не спеши оставить нас здесь, на этой поганой, ТАКОЙ ГРУСТНОЙ, поляне… Я ЕЩЁ НЕ ВСЁ СКАЗАЛ ТЕБЕ…
Его тело начинает неровно и слабо сокращаться. Эта боль, парень… Она, и только она истинно и натурально приближает тебя к Началу…
…Ты вышел когда-то из этой боли, и ты принёс её за собой в этот мир, ты научился отнимать жизнь…
Ты урод, парень…, каких мало… но тебе никогда не переплюнуть меня в умении дарить боль…, наказывать…
Наказывать таких, как ты, и тебе подобных…
Вздрогни же ещё раз, прошу…
Покажи же мне ещё раз… и прочувствуй сам, каково это — умирать…
— Напрягись, выдержи всё… и скажи…, ты же можешь… Давай сыграем в эту, последнюю нашу откровенность… — я отрешённо шепчу ему это прямо в грязное, полное коричневой серы ухо… И меня даже не мутит, хотя я не из тех, кто обедает за одним столом с засранцами.
— Дядя… Дядя Шатун… Пожалуйста, не надо… Хватит!!! Ну, хватит с него уже!!! — чей это такой далёкий, словно эхо, и такой горячий голосок будоражит, смеет нарушать мою столь возвышенную, столь искусно и бесконечно любовно выстроенную мною пирамиду наслаждения?!