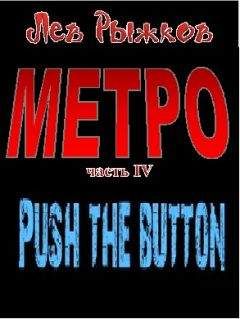Но даже для этого панибратского жеста мне пришлось неимоверно напрячься…
Но он не обиделся!
Он, видимо, даже нагнулся ко мне, потому как в следующее мгновение я понял, что с моего отёкшего лица очень осторожно стаскивают эту, так настохреневшую мне, железину…
Яркий, нестерпимый свет тут же пронзил мои глаза, причинив боль, от которой мне стало даже как-то… светлее в черепушке, что ли?
И проморгавшись, мне действительно становится немного легче.
Потому как я даже начинаю размышлять.
Путано, странно, но процесс пошёл, что говорится…
Например, я вдруг ни к селу, ни к городу подумал о том, отчего у Бога такие огромные ноги, стоящие почти прямо перед моим носом…?
Нереально, несуразно большие…
Бог — он ведь является в образе человека… и вот, — я вижу этому подтверждение, — он вроде бы начинает сокращаться в размерах, будто тает, съёживается…
Спасибо, Всевышний… Так мне будет гораздо привычней…
Меня как-то не удивляет, что окружающая обстановка, что я ещё совсем нечётко вижу вокруг себя, никак не похожа на то, что можно назвать небесами.
Может быть, в момент смерти человек попадает именно на такое «небо», где воссоздано всё именно так, как в том месте, где он только что оставил своё никчёмное мёртвое тело?
И тогда выходит, что Бог ошибочно считает, что как раз в таком месте человеческой душе будет уютней всего, поскольку именно оно будет напоминать ему о последних минутах той жизни?
…Как это печально…, мне не хотелось бы провести свою долю Вечности в декорациях мрачного подземелья, среди толщи ненавистной воды, как какая-нибудь презренная жаба…
…А скажи мне, Господи, почему Ты не в белых и нежных сандалиях?
Да, я правду говорю Тебе… Я же вижу, во что Ты обут…
Ты стоишь передо мною в дорогих, мягких, ухоженных, но так не идущих Тебе по сути Твоей «берцах»… этих позорных чоботах сорок четвёртого размера…
…Прости, я несу такую несуразицу, ахинею…
Сейчас я соберусь с силами и… встану, о, Всевышний…
Погоди немного, прошу Тебя… У меня пока нет на это сил… нет сил…
Ты говори, говори со мною, жалким и разбитым…
Я ещё почти ни фига не понимаю, но…
Мне так сладостно слушать твой размеренный, глубокий и рассуждающий голос…
… - я видел. И уж если кто-то смог бы пройти сюда так, и при этом выжить, то это мог быть только ты…
…Откуда я знаю этот голос?
Скажи мне ещё что-нибудь, Господи… Ещё хоть слово! Может, я успел чокнуться, прежде чем ворвался сюда?!
— Ну, здравствуй, Гюрза… Добро пожаловать в мой маленький рай…
…Если и существовал другой способ мне прийти в себя, то я о нём никогда не узнаю.
Но этот…
Пожалуй, я очнулся бы, ожил бы даже в том случае, если б гнил уже год.
Этот голос и само присутствие говорившего подняли б меня даже из могилы.
А потому меня самого уже не удивляло, что я тут же пришёл себя, как если б проснулся в кипящем масле, и до того момента, когда мне суждено было свариться заживо, у меня был возможен выбор, — очнуться и выскочить, или лениво пропустить такой редкий шанс.
Я с превеликим трудом приподнялся на руке и сел.
Меня тут же замутило, пробрала дрожь.
Как только спала пелена «зефирной» иллюзии, навеянной горячечным бредом пробуждения, навалившаяся реальность тут же вернула и обыденные, свойственные поганой бренной жизни, ощущения.
И улетев, этот "шоколад мимозного настроения" прихватил с собою заодно состояние отрешённой эйфории.
Оставив в гадкое наследство полный набор мерзопакостей, тут же ринувшихся на захват сданных было ими позиций.
Меня обильно вырвало. Водою.
Если б в меня можно было натолкать дрожжей и сахара, да прислонить в тёплом месте к горячей стенке, и оставить так подремать, то через пару дней из бурдюка моей шкуры можно было бы хлебать брагу. Во мне воды, казалось, было столько, что я могу не пить теперь месяц.
Тело ломило и от холода, и от перенесённых «кувырков», обильно сдобренных «дружескими» тычками и оплеухами "от Трубы". Как "от Кутюр"…
А более всего — от безграничной, высосавшей и раскатавшей меня в лепёшку, усталости. Того неизмеримого, бескрайнего равнодушия тела, впавшего в состояние двигательной прострации, в котором ему абсолютно не подвластно и находится вне всякого понимания такое явление, как "движение".
— Здравствуй…, чёрт… — свистящие, со всхрипом слова словно выталкивало из меня насильно, как сжатым воздухом.
Я сказал ему слова «приветствия», хотя всё во мне пыталось напрячься, собраться в пружину, аккумулироваться… для одной-единственной цели.
Я был уверен, что данная цель была самой благородной и возвышенной в оставшемся при памяти мире, стоящей даже того, чтобы после этого упасть без сил и больше не встать.
Это — дать ему в зубы.
Дать так, чтобы он тут же проглотил их — разом все, прямо вместе с перемолотыми в кашу дёснами, пузырями солёной густой крови и мелким крошевом разбитых вдребезги челюстных костей.
Авось пригодится всё это «хозяйство» к старости, когда освоится, срастётся и станет на новое место. Где-нибудь в районе прямой кишки!
…Эта гнида улыбалась…
Будто почуяв мои мысли, он резво отпрянул от меня, вскочив с корточек, на которых сидел, уставившись своими наглыми буркалами мне в синюшное лицо.
Словно рассматривая меня, как козявку на лацкане пиджака.
…И всё-таки он меня боится…
Даже здесь, у себя. Даже в таком моём состоянии. Даже имея при себе пистолет, который я уже успел заметить на его поясе…
Что же, это радует…
Значит, ты всё же не забыл, с каким усердием я вколачивал в тебя то, за что сейчас и пришёл за тобой, мой не имеющий права жить друг…
Но ты улыбаешься…
Так скалится в растерянной и хмурой улыбке псарь, к которому принесли израненного, еле живого кобеля, слава о злобе и кровожадности которого дошла и до его ушей.
Пёс недвижим и страдает, но его внимательные и спокойные глаза живы, и на каждое неловкое движение человека он реагирует грозным оскалом и яростью этих налитых кровью глаз.
Он скорее издохнет, чем позволит прикоснуться к себе чужаку хоть травинкой. Он послушен и верен лишь владельцу.
И псарь об этом знает. Но он стоит вне клетки, в безопасности. Он недосягаем, а потому в зрачках его бесится бессильное раздражение непокорностью чуть дышащего безумного зверя, даже на грани забвения не желающего быть покорным.
Бессильная, но подстёгиваемая завидным самомнением улыбка, исполненная трусливой уверенности в собственной возможности укротить первозданность этой стихии…