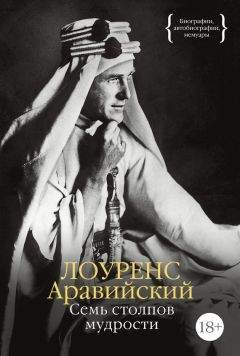Ознакомительная версия.
Он, наверное, прочел это по моему лицу.
– Будь рядом с Левкович. Ей твоя поддержка нужней, чем мне.
Он поцеловал меня и, вскинув рюкзак на плечо, сбежал вниз, к такси.
* * *
– Ваше имя.
– Глеб Дмитриевич Асмоловский.
– Звание.
– Капитан Советской армии, воздушно-десантные войска.
– Личный номер?
– Не помню. Должен быть в деле…
– Вы являетесь членом Коммунистической партии Советского Союза?
– Беспартийный.
– Каким образом вы попали в плен?
– Я был ранен в бою на горе Роман-Кош, в ночь с двадцать девятого на тридцатое апреля.
– Скажите, узнаете ли вы кого-либо из находящихся здесь людей?
Глеб узнавал. Еще как узнавал. За столом напротив сидел белофашистский гад Верещагин, одетый в самую вырвиглазную расписуху, какую только можно вообразить. Глеб даже помыслить не мог, что на свете бывает столько оттенков оранжевого и синего.
– Да, – сказал Глеб. – Это полковник Артемий Верещагин. Я его несколько раз видел по телевидению и читал о нем в газетах.
Это было далеко не все, но морда у полковника, проводящего очную ставку, была такая протокольная и такая особистская, что Глеб только плечами пожал.
– И что, это все?
– Я имею право хранить молчание.
Полковник стал цвета бордо. Верещагин смотрел на Глеба не мигая.
– Полковник Верещагин, вы знакомы с капитаном Асмоловским? – повел свою партию крымский военный юрист, рано поседевший капитан.
– Да.
– Расскажите о вашей первой встрече.
Верещагин монотонно и кратко изложил историю появления своей «психкоманды» и пребывания ее на Роман-Кош совместно с ротой капитана Асмоловского. Выглядел он так, словно три ночи не спал и три дня не ел.
– Капитан, как же согласовать это с вашим заявлением? – повернулся к Глебу крымский капитан.
– Как хотите, так и согласовывайте, – глядя в сторону, сказал Глеб.
– Можно, я поговорю с ним? – спросил Верещагин.
– Говорите, – посопев, согласился полковник.
– Наедине.
– Зачем это? – забеспокоился советский юрист.
– Давайте выйдем, – крымский капитан встал.
– Объясните мне…
– Уходите отсюда, пожалуйста! – Верещагин поднялся со стула. – Дайте мне объяснить человеку, что к чему. Вам же лучше будет. И скажите, чтобы принесли чаю…
Они остались вдвоем. Глеб подозревал, что зеркало в кабинете – одностороннее, как в кино, и советско-крымская юридическая братия наверняка продолжает наблюдать за очной ставкой.
– Они в безопасности, Глеб, – сказал Верещагин. – Ну, те, кто жив. И тема, которой ты опасаешься, подниматься здесь не будет совершенно. Тут расследуют исключительно мои действия.
– Что тебе светит?
– Не знаю… Этот человек, капитан Пепеляев, – мой адвокат. Он клянется, что я отделаюсь выбарабаниванием. Поначалу мне кроили – как это у вас называется? – «вышку», но Пепеляев не оставил от этих обвинений даже перьев. Он уже не одну задницу спас, так что я ему верю.
Принесли чай. Вернее, по здешнему обыкновению – кипяток и пакетики на веревочках.
– Победителей не судят, – хмыкнул Глеб.
– Как видишь…
– И ты, значит, покорно идешь под расстрел – ради сохранения хороших отношений между Москвой и этой… как ее… Республикой Крым?
– Под какой еще расстрел? Сохранить вам лицо – не значит потерять свое. Приговор уже известен: меня вышибут из армии с позором, предварительно разжаловав. На этом сторговались обвинение и защита.
– Что значит «сторговались»?
– То и значит. Как на базаре. Один просит сотню, второй дает двадцатку, сходятся на шестидесяти. Так и здесь.
– Ну так зачем меня-то дергать?
– А ты, Глеб, единственный свидетель с советской стороны.
– Что? – потрясенный Асмоловский подался вперед. – Иди ты! Там же тьма народу была!
– Да? И кто, например?
– Васюк…
– Убит.
– Палишко…
– Убит.
– Стумбиньш…
– Ранен, до сих пор в коме.
– Говоров…
– Не нашли.
– Петраков…
– Убит.
– Комбат…
– Занят в проекте «Дон»: новое имя, паспорт гражданина Крыма. Вызывать не будут, это вопрос принципиальный.
Глеб матюкнулся.
– Солдаты…
– Те, кто общался с нами достаточно плотно, будут молчать. И ты знаешь почему. Так вот, мы получим приговор по самым низким ставкам, если будем хорошо себя вести. Если процесс пройдет быстро и чисто. Это честная сделка: обвинение не потеет, получая доказательства, но за это не будет рыть нам могилу.
– Этот полковник – он от обвинения?
– Товарищ Гудзь? Нет, он просто советский наблюдатель. Прелесть ситуации в том, что крымцы все должны сделать сами.
– Это он меня откопал?
– Конечно. И возлагает на тебя огромные надежды с тех пор, как узнал, что я тебя ранил.
Глеб пригубил чай.
Дело, конечно, не в самом Верещагине. Он был и остался врагом, он наделал много горя советским людям, да и своим тоже.
Дело в том, что если бы Глеб оказался на его месте – скорее всего, он поступил бы точно так же.
Ну и в раскормленной ряхе Гудзя. Надежды он возлагает, крыса.
– Меня допрашивала сначала наша разведка, потом ваша разведка, – сказал Глеб. – Пусть поднимет мои тогдашние показания. Ничего нового я рассказать не могу.
– Да сейчас-то от тебя ничего не требуется. Ты должен дать показания перед трибуналом.
– А если я их не дам?
– Тебя все равно туда вызовут и ты будешь выглядеть по-идиотски.
Глеб и сам это понимал, но ему не хотелось быстро соглашаться – это значило бы скоро закончить встречу, а Глебу отчего-то хотелось узнать получше настоящего Верещагина, без притворства и вранья.
– Ты и правда простой пехотный капитан?
– Да. Не очень, но простой. И в самом деле альпинист.
– Какой идиот послал тебя на такое задание?
– Это был не идиот, Глеб. Это был умный человек, и сейчас я, по идее, давал бы показания не здесь, а в КГБ.
– А ты оказался умнее и не попал в руки КГБ.
– Нет. Мне просто повезло.
– Слышал я твое везение. Когда в себя приходил.
– Мне фантастически повезло, Глеб. Если бы я попал в руки ГРУ целым и невредимым, они бы, ни секунды не теряя, отправили бы меня в Москву, и хрен бы я оттуда выбрался.
– Зато теперь сидишь в тюряге у своих.
– В какой тюряге, Глеб? Я на свободе, живу на квартире, каждый день прихожу сюда как на работу. Хотел бы удрать – удрал бы.
– А чего сидишь?
– А ты бы на моем месте что сделал?
Глеб не знал, что бы сделал на месте Арта. Он хотел сказать, что Арт ведет себя сейчас как двоюродный дед Асмоловский, вернувшийся по ошибке оттуда, откуда не должен был, и до самой смерти твердивший, что он не опозорил партию, но что-то мешало. Наверное, совершенно непроницаемые глаза Верещагина.
Ознакомительная версия.