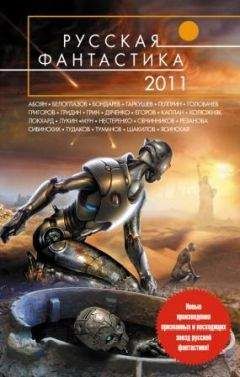По дороге застучали копыта, рядом с нами остановилась чёрная карета. Кучер повернул к нам лицо, скрытое тенью широкой шляпы. Тёмные перья плюмажа кивали, колыхались, как живые и очень неприятные существа.
— Поздновато возвращаетесь, девочки, — прогудел чёрный человек. — В школе после уроков оставались? Директор вас лично наказывал? Своей большой указкой? Садитесь, подвезу куда надо. Меня не бойтесь, мы с вашими отцами вместе не раз рыбачили, и водку пили, и на медведя ходили, и малолеток по кустам…
Я выстрелила трижды, два раза в кучера и один — в лошадь. Карета взорвалась чёрной мутью, вокруг метнулись щупальца, но тут же сдулись, растеклись по дороге грязно-багровой лужей. Омерзительный запах наполнил воздух, как будто грязные носки сгнили в туалете.
— Мы бы попытались раньше, Яна, — сказала я. — Он бы никогда до тебя не добрался. Папа бы сразу… Но его только на прошлой неделе из госпиталя выписали. У него парашют основной не раскрылся, а запасной перекрутился, он сильно головой об дерево… Такой дурацкий несчастный случай, так очень редко бывает. Ему долго было совсем плохо. Теперь неизвестно, сможет ли он снова летать, или комиссуют. А сюда, в этот мир, в летум, он до сих пор войти не может. Но когда ты пропала, он согласился, что больше ждать нельзя. Меня скрепя сердце отпустил, хотя я ещё не умею ничего толком, ты же видишь…
— А по-моему ты умеешь всё, — сказала Яна. — Ты смелая и классная. Я тебе завидую. Я бы хотела быть такой, как ты…
У меня горло перехватило и глаза стали горячими. Я сглотнула и повернула ключ в зажигании. Яна залезла в коляску. Вдали уже слышались пулемётные очереди и грохот танков, и ветер нёс к нам дым горящих деревень.
— Мне из пионеров-героев больше всего нравился Вилор Чекмак. Партизан. Он был один в дозоре, в самом начале войны. Отстреливался, пока патроны не кончились, а потом себя вместе с врагами подорвал. Я его фотку из книжки библиотечной вырезала. Такой красивый, я не удержалась. И смотрел пронзительно, как будто прямо на меня. Как бы говорил: «Не дрейфь, Янка, я не исчез из мира, когда-нибудь мы непременно увидимся!»
— Ну вот, увиделись же. Это же он был в первом танке, когда мы деревню отбивали? Сероглазый такой, лохматый? Одним выстрелом немецкую батарею снёс. Ой, слушай, на Мишку Зверева похож из моего класса.
— Это же не по-настоящему. Это всё я придумываю, да?
— Ну-у… и да, и нет… Как бы тебе объяснить… Знаешь, как иногда говорят, что жизнь — это тканое полотно?
— Кто так говорит?
— Ну, неважно, читала где-то. Короче — представь себе кучу нитей, разложенную на ковре. Вот они лежат, большинство вытянуто в одном направлении, некоторые переплетены, некоторые завязаны узелками. Где-то в один слой, где-то толсто. Вроде как и держатся все вместе, но каждая нить — сама по себе, если потянуть, то она вытащится, а другие останутся. Понимаешь?
— Не-а.
— Мы движемся по твоей нити. К узелку, которым она завязалась с нитью убийцы. Но при этом мы перемещаемся и по ковру тоже. А на нём — узоры, ворсинки, крошки всякие, дырки моль проела, мошки всякие прячутся… Это реальность летума, она общая для всех.
— То есть всё, что происходит, происходит не только внутри моей головы? Хотя у меня и головы-то больше нет…
— Яна, большая часть того, что происходит со всеми людьми, происходит внутри их головы. Есть ли она у них, или нет.
— А моя нитка после этого узелка обрывается?
— Конечно, нет. Нити бесконечны. Твоя просто как бы уходит на изнанку, на другую сторону ковра. А потом, когда придёт время опять родиться, сделает стежок, опять выйдет на лицо.
— А когда мне снова можно родиться?
— Не знаю.
— А ты и твой папа — вы кто?
— В смысле?
— Ну… волшебники, или шаманы там, или экстрасенсы?
— Мы… Нас называют летумке, Яна. Ходящие по смерти. Мы можем быть и действовать в двух мирах. Видеть энергию летума и управлять ею.
— Слушай, а зачем вы убийц находите? Вам так положено?
— Ничего не положено. Мы свободны, как и все нормальные люди.
— А вас много?
— Не знаю… Знаю только папу и дедушек. Я спрашивала — папа говорил, что немного. Как альбиносов. Они редкие, но всегда есть.
— А почему вы все вместе не живете? Ну, кланом там. Или станицей?
— А альбиносы, например, что, со всего мира собираются и кланом живут? Ерунду не говори.
— А как такой, как вы, стать?
— Стать никак нельзя. Надо родиться. Папа говорит — летум в крови.
— А я смогу выбирать, где и у кого родиться?
— Нет. С изнанки ковра рисунка не видно.
— Слушай, вот бы я у тебя родилась. Было бы весело, да? Ты же будешь детей рожать?
— Нет.
— А сигарет точно не осталось?
— Нет.
— А что вы еще умеете? А вот как ты дерёшься и стреляешь — это тоже магия и летум?
— Нет, это ежедневные тренировки с четырех лет.
— А вы сами-то бессмертны?
— Нет. Слушай, Ян, спи давай уже. Пока ты не заснёшь, день не сменится и завтра не настанет.
— Спокойной ночи, Тань.
— Спокойной ночи, Янка.
Мы медленно ехали по аккуратной, полосато постриженной зеленой лужайке. Пахло травой и кварцем. Янка вертела головой по сторонам. Пожала плечами, поймав мой вопросительный взгляд. За деревьями показался красный прямоугольник, который оказался макетом старинного автобуса в натуральную величину, только плоским, двухмерным, как театральная декорация.
Бок автобуса состоял из множества дверей, на каждой из которых была большая репродукция картины и надпись «Проспект Ленина-КосмоЗоо». Я затормозила Мотю посередине, между Джокондой и Боярыней Морозовой.
— Ой, смотри, робот Вертер! — сказала Янка восхищенно.
Рядом с автобусом сидел печальный худой человек с длинным носом и ровно постриженными волосами до плеч. На нем был серебристый блестящий комбинезон, а на коленях он держал большую коробку бобинного магнитофона «Астра», у меня дома был такой же. Когда двигатель мотоцикла заглох, мы услышали, как хор мечтательных детских голосов поёт из магнитофона «Прекрасное Далёко».
— Отправляйтесь в КосмоЗоо, — по слогам сказал мужчина, и хитро посмотрел на нас исподлобья. — Вам туда.
Я ткнула Яну локтем в бок.
— Он хороший или плохой? Ему можно верить? И почему он робот-то? Вроде мужик как мужик.
Янка уставилась на меня, не моргая.
— Ты что, не смотрела, что ли? Ну ты, Тань, даёшь!
— Ха-ха-ха, — грустно сказал человек.
Я попыталась смущенно оправдаться, рассказать про поездку к бабушке, лето без телевизора, тренировки. Но тут одна из красных дверей распахнулась — за ней было море и пляж — и оттуда выбежал мальчик в школьной форме и пионерском галстуке.
— Миелофон у меня! — закричал он, увидев нас. Распахнулась другая дверь, с картиной, на которой пышногрудая женщина рассматривала себя в зеркале. Оттуда выбежали двое неприятных людей в желтых костюмах, крупный и мелкий с усиками.
— Пираты! — крикнул мальчик и бросился к двери с портретом Пушкина. За ней шел густой снег, и пионер скрылся за метелью еще до того, как дверь закрылась. Пробегая мимо нас, он уронил в траву черную коробку на длинном ремешке.
— На моего Мишку Зверева очень похож, — сказала я, провожая его глазами. — Только помладше.
Яна сильно покраснела, вздернула подбородок и посмотрела на меня с вызовом.
— Да! — сказала она. — Он мне тоже нравился. У нас в классе все девчонки следили за вашим романом. И все ему очень сочувствовали, когда ты его бросила после выпускного. Почему, кстати?
Я поморщилась от воспоминаний. Саднило. Вздохнула, глядя, как двое в желтом открывают дверь в снег и прыгают на месте, не решаясь бежать в холод. Наконец толстый отвесил маленькому подзатыльник, тот влетел в дверь и скрылся в снегопаде. Большой побежал за ним, дверь закрылась.
— Мишка в МГУ поступать собирался, — сказала я. — Он умный. Смелый. Веселый. Нечего ему за меня держаться. Пусть летит.