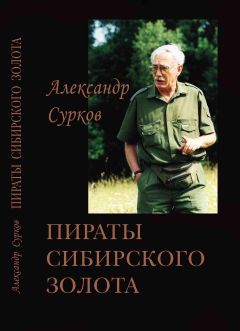Франция. Май. 1649 год.
В ночном небе, затянутая сиреневой дымкой, светила полная луна.
По узкой дороге, провинции Фуа, ведущей к тыльной стене небольшого аббатства, медленно поднимался столб пыли. Вскоре стал слышен стук копыт.
К маленькой, замаскированной зелёным плющом калитки верхом на взмыленной лошади подъехал человек.
С опаской, озираясь по сторонам, всадник спешился. Привязав изможденного коня к дереву, человек повернулся спиной к холодному лунному свету. Ночное светило выхватило из сумрака очертания стройного высокого мужчины.
Позвякивая шпорами, усталой, уверенной походкой, всадник направился к калитке и, взявшись за круглую железную рукоять, хотел, было постучать, но дверь отварилась, и из неё показался слабый свет.
Ночного гостя аббатства Фуа, встретил старый, немой монах, одетый в длинный балахон. Голова старца была скрыта глубоко натянутым капюшоном, из-под свободной одежды была видна лишь костлявая немощная рука, с дрожащим огарком свечи. Монах проводил ночного гостя к низкой арке и показал на дверь, за которой находилась круглая лестница, ведущая вверх башни.
В этом маленьком, неказистом аббатстве вершились не богоугодные дела, а мирские. Отвечали они интересам великосветских вельмож, и в некоторых случаях королевских особ. Шантаж, подкуп, интриги — всем этим не брезговали люди, обращающиеся за помощью в лона церкви.
Ночной гость понимал, что если он вновь идет по этим старым, затянутым в склизкий мох, ступеням, значит аббату Бестье, снова понадобилась его помощь. По коже пробежал приятный холодок гордыни, а на лице растянулась самодовольная улыбка. В слабом мерцающем свете факелов, его черты, от природы красивые, вдруг стали походить на гримасу демона.
Гордыня… этот сладкий грех был особенно навязчив.
Всадник остановился и, низко опустив голову, прошептал молитву, осеняя себя крестным знаменьем.
Ступени закончились. Перед ним возникла дверь, из-под щели которой струился мягкий свет. Придав свой внешности кротость, всадник зашел внутрь кельи и остался подле порога.
Прямо, напротив, за столом сидел мужчина и что-то писал. Еще какое-то время он будто не замечал посетителя. Выдержав нужную паузу, он отложил перо в сторону и встал со своего места.
В этой сухой полусогнутой фигуре трудно было с первого взгляда угадать могущественного аббата. Одет скромно неброско. Лицом он был не чем непримечателен, но вот глаза этого человека были полны снисхождения и покровительства, а во взгляде читалась приятная усталость от власти и чужих тайн.
Аббат Бестье жестом показал, что гость может войти и припасть пред ним коленом.
С невероятным усилием воли всадник последовал ритуалу и, приложившись губами к руке аббата, застыл в позе почтенного ожидания.
— Полноте, сын мой, — не без удовольствия сказал, Бестье. Ему льстило, что такой опасный человек припал устами к его руке. Он по-отечески приподнял гостя за плечи и осторожно спросил:
— Кроме сторожа вас ни кто не видел?
— Нет, монсеньор, — голос всадника был низкий и хриплый.
— Хорошо, — выдохнул аббат.
Взглянув глазами полными тепла в глаза ночному гостю, Бестье показал на кресло в самом темном углу кельи.
— Присядьте, сын мой.
— Со мной можно без церемоний, — сказал гость. — Давайте сразу к делу.
— Знаю, друг мой, что вы неприхотливы, но я, все же, настаиваю на вашем отдыхе. Выпейте вина. В этом аббатстве делают отличное молодое вино.
Аббат наполнил из серебреного кувшина бокал и протянул его гостю.
— Если не ошибаюсь, мой гонец настиг вас, лишь в Жанраке?
Всадник кивнул.
— Далековато, — аббат продолжал держать бокал с вином в руке, — смелее, вы должны это попробовать.
Заметив, что рука Бестье трясется, ночной гость всё же принял бокал, но с первым глотком не спешил. Его мучила жажда, но показать, что испытываешь нужду, значит проявить слабость. Он лишь смочил губы в приятной прохладной жидкости и одобрительно опустил веки.
Бестье остался довольным.
— Рад, что между нами по-прежнему полное взаимопонимание и доверие, мой друг.
— Если бы вы хотели моей смерти то не стали бы вызывать к себе, монсеньор.
— Прошу в это кресло сын мой, оно очень удобное.
Всадник, принял предложение аббата. Сняв с пояса пистолеты и шпагу, он расположился в кресле, любезно предложенном хозяином кельи.
Бестье улыбнулся как можно шире и поставил кувшин с вином рядом с гостем.
— Прошу, не откажите себе в удовольствие. Возможно, вы проголодались? Не стесняйтесь, тут есть все что нужно.
— Трапеза была бы кстати, — сквозь зубы сказал всадник. Обмен любезностями его стал немного раздражать. Светские беседы не его конек. Всадник осушил бокал, налил себе второй и в который уже раз стал разглядывать до черта надоевшую келью.
По её убранству, нельзя было сказать, что это бедное аббатство. Обстановка комнаты скорей походила на обиталище богатого дворянина, нежели на жильё духовного лица. Резная мебель была сделана из заморского дуба, стол крыт золоченой скатертью, поверх которой было угощение достойное любого знатного дома. На полках из красного дерева драгоценные сосуды для богослужения и для трапезы, а на каменном полу расстилалась шкура огромного медведя и это далеко не вся роскошь, присутствовавшая в келье.
— Неплохо устроились Монсеньор, — сказал путник. — Надеюсь, мои заслуги перед церковью будут оценены также высоко.
— Ваши заслуги нам известны. Мы помним, как вы отличились в провинции Пуата. Ваши люди были полезны, весьма полезны. И, уверяю вас, что после выполнения этого деликатного дела вы будете полностью удовлетворены своим гонораром, брат Амадис.
Прозвучало его имя, и всадника напрягся. Лишь немногие знали кто он на самом деле, и аббат Бестье не был в числе избранных. Амадис напрягся. Но волнения своего, ни как не выдал.
— Откуда вам стало известно моё имя, монсеньер?
Аббат пропустил вопрос мимо ушей. Его светлость задумчиво погладил свой гладко выбритый морщинистый подбородок и сказал:
— Амадис, немного странное имя для монаха. Вы так не считаете?
Левый глаз всадника заметно дернулся.
— Вполне подходящее имя, для такого монаха как я, — он залпом осушил второй бокал и тут же налил себе следующий.
— Поясните сын мой.
— Что ж, извольте. Всё просто, Амадис был героем средневекового романа — идеал рыцарства и благородства. Конечно, то, что я делаю во имя нашей веры нельзя назвать благородством, но рыцарством немного отдает.