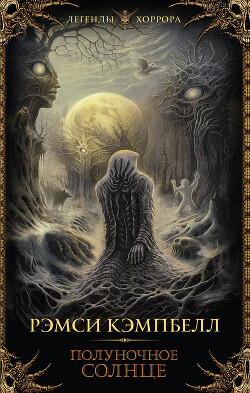с ними. Он помнил, как трещали хлопушки, когда вся семья, сидя за накрытым столом, взрывала их разом; как дедушка говорил: «За зиму», и все поднимали бокалы с вином; как он долгими вечерами сидел у камина на коленях у матери, пока они с бабушкой пели рождественские гимны, которые словно воплощали это время года, этот ледяной блеск бескрайней ночи над Старгрейвом и ветер, рвущийся с вересковых пустошей через лес и постукивающий в окна, – и он осознал, что наблюдает за самим собой со стороны. Вероятно, то был единственный способ справиться с сумбуром в голове. Ощущение было такое, словно он смотрит на ясли, на директора и на себя откуда-то с огромной высоты, куда не добираются его переживания. И эта новая ясность распахнула его разум, и он с обескураживающей живостью вспомнил, как учился ходить. Отец с дедом танцевали за пределами досягаемости, уводя его за собой все глубже в лес, и на их лицах отражались гордость и легкая тревога. Вся семья глядела на него точно так же, когда он начал понимать, что Санта-Клаус выдумка, но что за тайну он должен был постигнуть в лесу? Внезапный ужас, природу которого он не хотел уразуметь, вернул его обратно, он явственно увидел перед собой ясли, и на мгновение показалось, что в них источник его страха, а вовсе не успокоения.
Последние несколько дней школьного триместра Бену казалось, что нечто, которое он почти сумел уловить, следит за ним из засады на периферии его мыслей. Дни становились все холоднее, и то была не липкая промозглость тумана, а настоящий жестокий мороз, из-за которого ему казалось, что промерзшие кости отделяются от плоти, пока он топал от тетиного дома до школы. Бен старался отвлечь себя уроками и символической вечеринкой, которую мистер О’Тул устроил – явно под нажимом учителей – в последний день триместра, однако уроки казались такой же ерундой, как и эта вечеринка. Он сидел в бумажном колпаке, ел бутерброды, запивая лимонадом, играл в морской бой с Домиником в тетради в клеточку, чувствуя, что просто оттягивает неизбежное, и он боялся узнать, что же это.
– Радуйтесь Рождеству, – сказал им учитель, когда прозвенел последний звонок, – но не объедайтесь, а то не влезете потом за парты.
Некоторые одноклассники вручили Бену рождественские открытки, и Бен пожалел, что не догадался принести тоже, хотя бы для того, чтобы подольше задержаться в классе. Но тетушка уже ждала его у ворот. Вдохнув поглубже и подняв воротник пальто, Бен заставил себя выйти из школы.
Тумана не было. Первая звезда низко висела в вечернем небе, как будто выкристаллизовавшаяся из глубокой синевы. Звезда ярко переливалась, чистое небо блестело как стекло, и он подумал, что синева вот-вот расколется, и на землю хлынет звездная ночь. Крыши домов и голые ветви деревьев казались вырезанными бритвой, и Бен решил, это знак: скоро все прояснится. Дома и деревья недвижно застыли на фоне неба, которое, кажется, сделалось плотнее, потемнев, и цепко держало верхушки крыш и концы ветвей, освещенные закатным солнцем. Пока они с тетей шли домой, залитые солнцем ветки посерели, и Бен вспомнил, что сегодня самый короткий день в году.
Когда тетушка открыла входную дверь, вслед за ней внутрь ворвался поток воздуха. Бен услышал, как на ковер упали хвоинки, и принес из-под раковины на кухне веник с совком. Подметая еловые иголки, он увидел свое отражение в серебристом шаре на дереве: раздутая голова, плотно прижатая к коленям, – и решил, что похож на головастика, скованного льдом. Дедушку вечно приходилось умолять, чтобы тот согласился украсить елку, принесенную из Леса Стерлингов, – он был твердо уверен, что самой елки, и того, что она символизирует, достаточно.
Тетя подала на ужин рождественский пудинг с сосисками и поймала по радиоприемнику концерт, где исполняли рождественские гимны. После ужина, убирая со стола, она подпевала последним гимнам, вроде бы надеясь, что Бен подхватит. Однако, когда он задолго до сна заявил, что хочет подняться к себе, она сказала лишь:
– Если понадоблюсь, я здесь.
Бен не стал включать свет на лестнице, поднимаясь наверх, к звездам, светившим за окнами спальни. Он смотрел из окна на них, с трудом пронзавших черноту, в глубинах которой галактики кружили, словно снежинки. Эта чернота всего лишь намекала на бесконечную тьму, где мир людей был меньше пылинки. Он представил себе, что одна звезда движется в точности так, как об этом рассказано в рождественской истории. Мысль встревожила его, и он даже не хотел знать почему. Он включил в спальне свет и опустился на колени перед фотографией.
Но от молитвы не было толку – слова ничего не значили для него. Неужели директор школы лишил их смысла, или то был отец Флинн? Даже фотография пугала Бена, причем не столько замороженными улыбками женщин, сколько выражением, застывшим в глазах отца, и деда, и его самого. Он выключил свет, чтобы не видеть этих глаз, и вернулся к окну.
Мигнула одна звезда, за ней другая. На мгновение показалось, что какая-то из них точно сдвинулась с места. Тетушка внизу переключила приемник на юмористическую программу, которую они часто слушали вместе. Бен решил, она нарочно прибавила звук, в надежде выманить его из своей комнаты, но музыкальная заставка с тем же успехом могла звать его из другого мира, потому что он наконец понял, что движущаяся звезда на самом деле вселяет уверенность, ведь как бы там не было темно, холодно и пусто, похоже, бесконечности не все равно.
Ему казалось, он выпадает из этого мира. Бескрайняя тьма как будто тянулась к нему сонмом своих звезд, светом, казавшимся таким же безрадостным, как и пространство между ними, и, вероятно, родившимся раньше этого мира. Он решил, что способен ощутить, как свет движется к нему, немыслимо быстро и все же медленнее снежинок, если учесть бесконечность времени. И он в один миг поверил, что директор школы прав: истина, которую воплощает рождественский вертеп, гораздо страшнее и удивительнее. Он заметил, что дрожит всем телом, и отпрянул от окна, потянувшись к выключателю. Но звездная тьма была и в зеркале, как и он сам, рядом с фотографией. Тьма таращилась на него его собственными глазами.
Это зрелище парализовало его. Он вспомнил глаза старика с барабаном из книги Эдварда Стерлинга, но почувствовал, что сейчас нечто куда более древнее – такое древнее, что от одной мысли об этом перехватывало дыхание, – глядит на него. Он не знал, сколько простоял, скорчившись перед зеркалом на столике и не замечая, что опирается