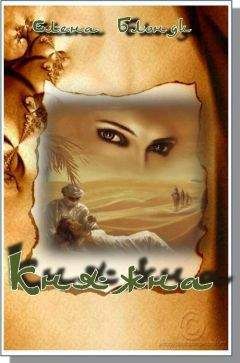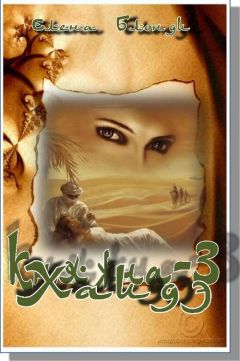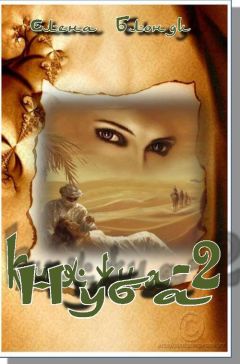— У меня был Нуба. Он мог защитить меня, всегда. Но дом брал меня, его украшенные стены, корзины с заморскими фруктами, вазы, полные цветов. Любая рабыня в нем была искушеннее и тоньше степной девочки, умеющей подстрелить из лука зайца и спрятаться в густой траве. Я отдана была в этот дом, наполненный незнакомой жизнью, и я согласилась на это. Потому защита не нужна была мне, она одела бы меня панцирем, в котором я могла задохнуться. Я велела Нубе не вмешиваться. И стала жить. Мое тело холили пять рабынь. И другие, которые делали массаж и учили медленным танцам. Учителя, нараспев читающие о способах любви и показывающие на приведенных девушках — что мужчины могут сделать с женщиной. И что — должны. Я жила в гинекее, и посреди множества рабынь и служанок, была одна. Не знала, что это не то, чему учат знатных женщин. Я думала, Теренций делает меня своей женой. А он делал игрушку. Дорогую, богатую, изысканную. Рискованную, ведь я могла все рассказать отцу, мы изредка виделись. Но я не рассказывала.
Она замолчала. Краем глаза видела мужской силуэт и не стала поворачиваться к нему. Перед камнем на песке сидела Ахатта, белея лицом, замерев, слушала, не отводя жадных глаз.
— Специальное питье утром. И я полдня проводила в постели, нежась и подставляя тело рукам рабынь. И специальное питье на закате, от которого тело сгорало в огненной лихорадке. Я с трудом дожидалась ночи, мой рот пересыхал, и если бы Нуба или еще кто попробовал остановить меня, когда солнце касалось воды, а из трапезной слышался пьяный рев гостей, я…
Она сглотнула, справляясь с голосом. До сих пор, засыпая, она падает в то воспоминание, когда Фития попыталась сказать ей, один всего раз…Когда ее били плетьми на заднем дворе, она молчала, только моталась голова с распущенными седыми волосами.
— Я хотела дождаться, когда она закричит, заплачет. Мне стало бы легче, я крикнула бы, чтоб немедленно отпустили, бросилась к ней. Но время стало, как старая шерсть с затхлым запахом, и я утонула в нем, потеряв голос и разум. Молчала, когда пьяный Теренций, обругав меня и рабов, приказал отвязать и высек меня насмешливыми словами. Ночью вернулась в свою спальню, и думала — умру. Но утром мне принесли питье. И все стало как прежде.
Хаидэ все-таки обернулась посмотреть на Техути. Но он стоял, опустив голову так низко, что подбородок упирался в грудь. И Хаидэ сказала еще:
— Теренций не мог отдавать меня веселым гостям из полиса. Я — жена знатного. Но в его доме всегда были чужестранцы, которые появлялись и исчезали, чтоб не вернуться. Они прибывали издалека, на кораблях или верхами. И были всегда голодны. Он… он смеялся и хвалил меня. А я радовалась этим похвалам, гордилась тем, что вынослива и неутомима. У меня крепкое тело. Я жила ночами, как живут пауки, а дни пролетали незаметно, от утреннего питья до закатного. Когда же гостей в доме убывало, они покидали полис, оставляя Теренцию привезенные из-за моря изысканные игрушки из кожи, слоновой кости и дерева, он все их пробовал на мне. И мне это нравилось. Мой муж говорил — ты самая дорогая рабыня моего дома, самая ценная, достигшая самого дна. Нет тебе равных. Он хотел изваять множество моих статуй, со всеми этими предметами и с обнаженными могучими рабами, и поставить в отдельном зале, восславив меня как равную темным богиням. Но не сделал этого. Мой муж всегда говорил больше, чем делал. И это не всегда плохо.
Я быстро училась. Не знаю до сих пор, почему так быстро, всего за несколько месяцев, я превратилась из гордой дочери вождя в игрушку пресыщенного мужа, и сама стала нестерпимо жадной до грязных удовольствий. Жадной до того, что в редкие дни, когда в доме не было пришлых издалека гостей, томилась и срывала злобу на послушных рабынях. И это я подсказала Теренцию, как принимать у себя горожан. Они приходили из гостевых покоев в роскошно убранную купальню. И их встречали пять обнаженных красавиц с лицами и плечами, закутанными цветной вуалью. Пять. Соревновались в изысканных и грубых ласках, доводя мужчин до исступления. И заставляли гадать, заключая споры — есть ли среди них дикая дочь гордого Торзы непобедимого. Прирученная и обученная степная кобылица, как называл меня муж. Он поклялся объездить меня, когда я перерезала горло его любимой кобыле, еще в первые дни. И он не нарушил эту клятву.
— Зачем? — возник голос из темноты, — зачем?
Техути не закончил вопрос и замолчал. А Хаидэ, не обращая внимания на него, повернулась к Ахатте, смеясь.
— Ты сказала шестеро жрецов, сестра? Тебя брали шестеро…
И тоже не закончила фразу. Из темноты, как смирный большой конь, вздохнул Убог. Хаидэ улыбнулась ему наугад в темноту. От него, тихо сидевшего рядом с Ахаттой, веяло теплотой, и княгиня испытала смутную зависть к сестре, получившей нежданный подарок от своей судьбы. А что же ее судьба? Есть ли дары для нее? Но разве она достойна даров…
— А потом все кончилось. В один день. Я не пустила Теренция в спальню, стояла у двери, держа наготове нож. И он ушел. Я наскучила ему, без игр и оргий к чему была пресыщенному богатому мужчине, испытавшему все мыслимые удовольствия страсти, угрюмая женщина, замкнувшая свое тело на невидимые замки. Он отвернулся и продолжил жить. А я не смогла начать жизнь и остановилась.
— Ты говоришь, сестра, что ты спала… девять месяцев, пока носила ребенка любимого мужа. — голос Хаидэ был мягким и ласковым, полным вины, — а я… я спала десять лет. Нуба уже не мог говорить со мной из головы в голову, мой разум умолк и молчало сердце. Лишь тело выполняло то, что положено ему, дабы избежать смерти. Я ела, гуляла, ткала покрывала. Сидя на высоком кресле, улыбалась гостям. Я читала привезенные книги и слушала трагедии актеров из метрополии. И когда поняла, что мое молчание убивает Нубу — отпустила его, лишь бы не просыпаться. Лишь бы не начинать жить. У тебя была любовь, Ахи, она вела, стегала, бросала в ошибки. У меня же не было ничего — ни желаний, ни радости, ни устремлений. Стоячая вода с гладкой поверхностью. Восемь лет после первых двух.
— Но ты проснулась сейчас.
— Да. Вы все разбудили меня. Пришли встать у моего ложа, как приходит к ночи утро. Неумолимо. Техути, Ахатта, Цез. Будто Беслаи, разыскивая воду, ударил в землю острием меча. И земля прорвалась, родив бешеное стадо водяных струй.
Она повернулась к сидящей рядом старухе и устало произнесла:
— Я не знаю, что мне сказать еще. Так много времени и все уместилось в такой короткий рассказ. Мне должно быть стыдно?
— Много ты знаешь о стыде, — ворчливо отозвалась Цез, — ты закончила свой рассказ, но дай-ка спрошу напоследок. Стыд… Скажи, благородная знатная госпожа, пустившая в свое тело сотни мужчин, как последняя площадная девка, за что больше всего стыдно тебе сейчас, когда ты окружена обыкновенными людьми, каждый из которых — со своими горестями, ошибками и своим стыдом? Что приходит ночами и прогоняет сон? За что ты готова убить себя?