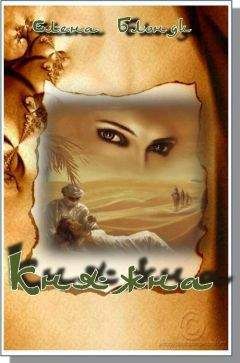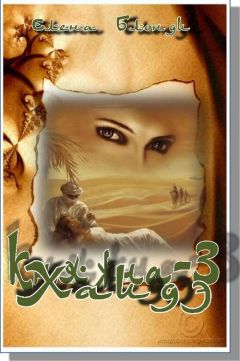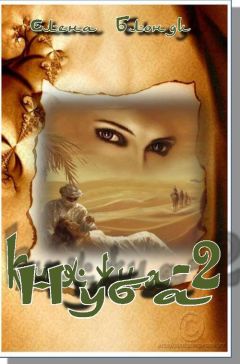И отрываясь от его губ, медленно, будто они уже срослись, и теперь ночь входит между их кожей невидимым острым клинком, разделяя, она пошла снова в свои берега, постепенно, снимая себя с него, слой за слоем и возвращаясь в границы сознания.
Откачнулась, держась руками за его талию. Вздрогнула от щекочущего прикосновения плаща, соскользнувшего с мужских плеч. И разглядывая серьезное мужское лицо над собой, подумала, не хотя этого, но соглашаясь принять:
«Я — одна»…
В славном торговом городе Стенгелисе не спала старая Карса. Сидела у большого стола, поставив перед собой на скатерть блестящие сафьяновые сапоги, совсем новые — и не поносил ни капельки, ушел… Да лучше бы обокрал, забрал сверток с монетами, ведь знал, где лежит. Но взял только свою разбитую цитру, не променяв ее на преданную любовь. Да пусть бы спал с ними обеими — и с Зелией тоже, а может, женился бы на Зелии, и Карсе досталось бы нянчить внуков, не больше того. И то было бы счастье. Но ушел, босой, ночью. Она погладила сапог, и, услышав, как затопали по лестнице легкие башмачки дочери, быстро сунула мужскую обувку в раскрытый мешок на полу. Надо бы продать. Но пусть будут, а вдруг вернется, сядет на расстеленное покрывало рядом с новым навесом, отхлебнет из кувшина холодной простокваши. Споет, как пел. И станет Карсе тихое счастье…
В квадратные окошки большой комнаты смотрели на большую немолодую женщину лица трех небесных богинь: Уаппис — с кошелем на широком поясе, Закла — с чашей врачующих трав, Гарида — с обнаженной для мужчин грудью. И позади них смотрел на звезды их муж Стенге, потому что негоже мужчине-богу волноваться мелкими нуждами смертных, пусть холят их жены, а его дело говорить со звездами. И — наказывать отступников.
Не спала в большой каменной комнате рабынь девочка Мератос. Затеплив крошечный огонек светильника в углу под лавкой, заползла туда с головой и, нашарив в кожаной торбе зеркальце, примостила его к стене, разглядывая короткий нос и круглый темный глаз, с ресницами, накрашенными жирной краской. Она ждала, и, когда стих пьяный гомон последних гостей высокого господина Теренция, дунула на огонек и, выползая из-под лавки, оправила на бедрах короткий хитон, подаренный ей княгиней — красный, с черной вышивкой по подолу. Оглядываясь на спящих, прокралась к двери и вышла, пробираясь за колоннами перистиля в коридор, ведущий к спальне хозяина. Не заметив, что лежащая на полу Гайя подняла гладко причесанную голову, глядя черными пристальными глазами вслед танцующей походке Диониса, увлекающего за собой глупую девчонку.
В самом сердце паучьей горы двое мальчиков не давали спать усталой Теке, кричали, надувая багровые щеки, и она, зевая и шепча ласковые сердитые слова, ловко расстегнула подмокшую спереди рубаху, выпрастывая обе тяжелые груди, сунула в маленькие рты набухшие темные соски. И, покачивая на коленях младенцев, с вызовом поглядела на сидящего у входа в пещеру стража-жреца.
Жрец разглядел над лохматой головой Теки раскинутое восьминожье коленчатых лап лунной Арахны и, нахмурясь, приложил руку к груди, чтоб успокоить себя щекочущим касанием серого дыма — царя пустоты без богов.
В странной зыбкой полутьме, сидел, скрестив ноги и положив на колени ладони, старый могучий мужчина, с широким лицом, обведенным подстриженной седой бородой. Сбитая на затылок шапка, увенчанная хвостом серебряного лиса, открывала большой лоб и черные брови над глубоко посаженными узкими глазами. Мужчина смотрел перед собой, морщась и напрягая глаза. И увидев, как посреди темноты светится силуэт тощего сутулого старика в остроконечной шаманской шапке, вздыхал облегченно, подаваясь вперед. И замирал, растерянно шаря глазами по густому, как черное молоко, мраку — пустому и безмолвному. А высоко вверху, падая в облака и возносясь над ними, светились опущенные к темноте лики воинов, тех, кто ушел, но навсегда остался с племенем Зубов Дракона.
На берегу мелкого просторного моря, родящего царскую рыбу и кидающего на песок во время веселых штормов зубчатые и круглые раковины, не спал бродяга-певец, сидел на корточках над вытянувшейся под обрывом Ахаттой и, оглядываясь на гаснущий костер, пел ей все песни, какие знал — без перерыва, тихо-тихо, еле шевеля губами. Провожал взглядом мужчину в плаще, прошедшего мимо и замершего на белой полосе пены. И убедившись, что тот не услышал, задумавшись, — продолжал петь баюльные песни, поднимая руку и бережно касаясь черных волос на женском плече.
А далеко-далеко от лагеря, дойдя до места, где обрыв длинным языком доставал прибоя, молодая женщина с серьезным лицом снимала с себя мужскую одежду, бросая ее на прибрежные камни. Кожаную рубаху с нашитыми бляхами, штаны, шапку, что болталась за плечами на плетеном шнурке. Положив сверху на одежду короткий меч, пошла в воду, ступая в смутно сверкающие горбы пены босыми ногами. Вытянув руки, черпнула полные ладони черной воды, перемешанной с золотом звезд, и вдруг рассмеялась, опрокидывая их снова в море.
«Нуба…» говорила она себе и слушала сердце, напрягая уши и голову, «Нуба! Мне должно быть плохо и смутно, страшно и непонятно. Но почему так обжигающе радостно то, что я стою тут, по горло в свежей морской воде, дышу ночным ветром-бережником и сейчас поплыву, как ты учил меня, Нуба… Почему все так наоборот?»
Уверенная, что черный раб услышит ее вопрос, она вытянула руки и повалилась в подающуюся под грудью и животом мягкую воду, опускаясь до самого дна, трогая песок с краями ракушек. Оттолкнулась и выпрыгнула из воды, поднимая тучи зеленых светящихся брызг. Упала снова и поплыла в черную бездну, невидимо переходящую в черное небо.
— Нуба! — крикнула в живую, дышащую пустоту.
И за краем земли, ступая с раскаленного красного песка в густую тень влажного жаркого леса, высокий черный мужчина с обритой и вымазанной серой глиной головой остановился, отводя рукой толстую, как змея лиану, унизанную алыми шевелящимися цветами. Прислушиваясь, широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами на неразличимом черном лице. И двинулся вглубь, навстречу мерному рокоту барабанов и шелестящему посвисту маковых погремушек.
Конец первой книги