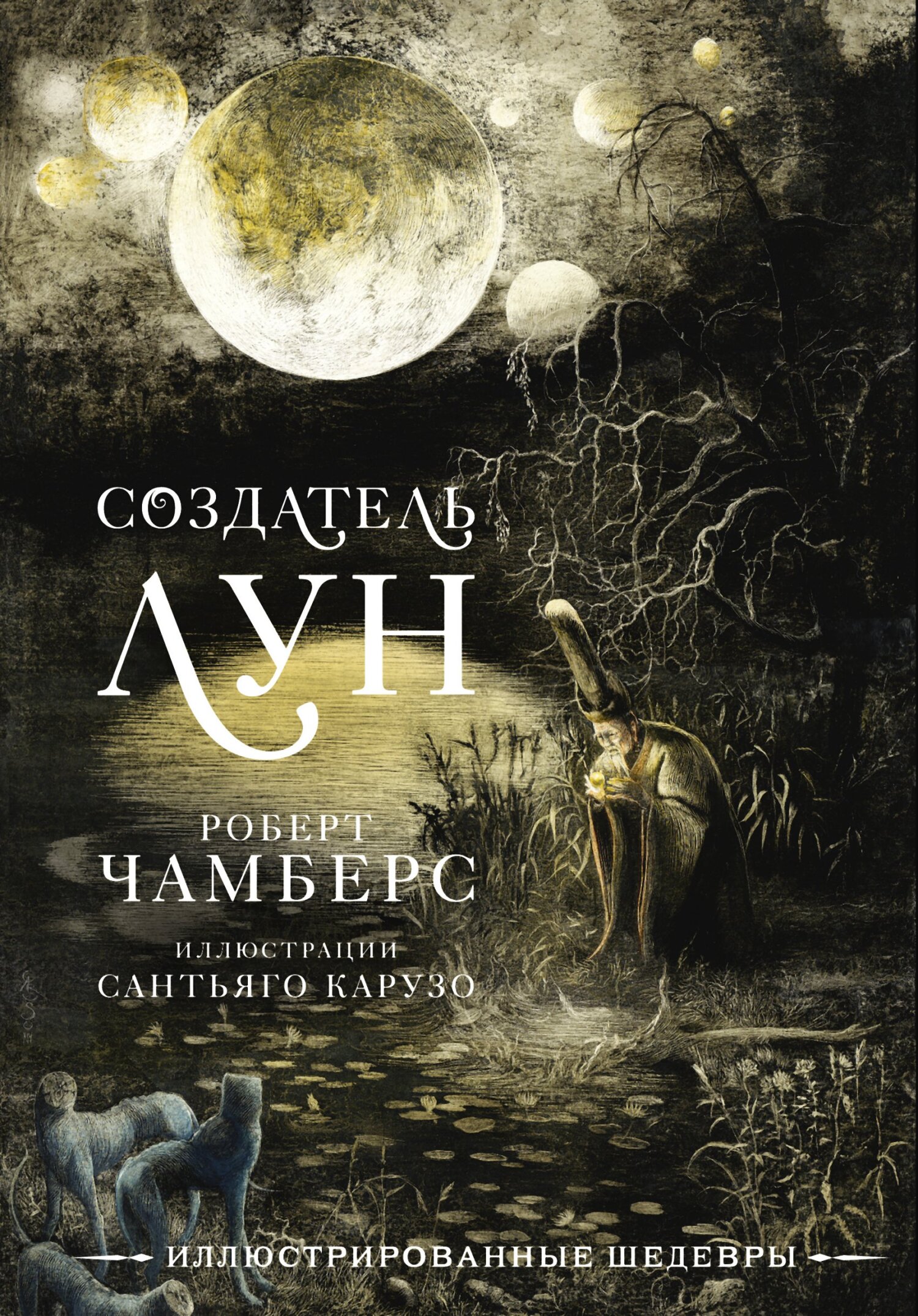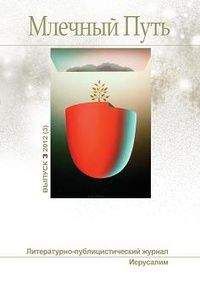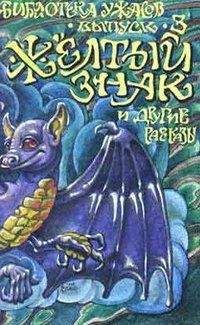по отмели, черной, как смоль, водоросли заколыхались, отлипая от бортов, крабики бросились врассыпную, торопясь укрыться в прозрачных глубинах зеленых теней. Таково было пришествие Бада Кента на Врата Горя.
Он вытащил каноэ до половины на выступ скалы и сел, тяжело дыша, положив загорелую руку на нос лодки. Так он просидел целый час. Пот высох под глазами. Морские птицы вернулись, ворчливо перекрикиваясь между собой. На шее багровел след от веревки: соленый ветер разъедал натертую кожу, а солнце жгло, как раскаленный докрасна стальной ошейник. Кент то и дело трогал шею, а однажды даже плеснул на нее холодной соленой водой.
Далеко на севере над морем висела дымка – плотная и неподвижная, как туман над Большой Ньюфаундлендской банкой. Кент не сводил с нее глаз: он знал, что там такое. Там, за туманом, лежал Остров Горя.
Остров Горя круглый год укрыт стеной тумана: непроглядные белые бастионы окружают его со всех сторон. Корабли огибают его десятой дорогой. Ходят слухи о горячих источниках на острове: мол, вода из них стекает в море, оттого над ним вечно клубится пар.
Зверовщик вернулся оттуда с россказнями о лесах, оленях и цветах, укрывающих остров сплошным ковром, но он пил без просыху, так что спрос с него был невелик. Тело студента, прибитое к берегу в заливе, было изуродовано до неузнаваемости, но говорили, будто в руке он сжимал багровый цветок, полуувядший, но огромный, как сковорода для смолы.
Обо всем этом и думал Бад Кент, неподвижно лежа рядом со своим каноэ, сгорая от жажды и дрожа от напряжения каждой жилкой измученного тела. И не страх вгонял его в бледность, проступавшую даже сквозь густой загар, а страх перед страхом. Нельзя ни о чем думать… нужно задушить страх на корню, чтобы не отвести взгляда, не отвернуться ни на миг от этой стены тумана, перегородившей море. Стиснув зубы, он обратился к страху лицом, посмотрел в его пустые глаза – и собственные его глаза победно сверкнули. Бад Кент победил страх.
Он поднялся. Чайки снова сорвались с насиженных мест и разразились заполошными воплями, захлопали крыльями так громко, что эхо в скалах отозвалось резкими щелчками.
Бурые водоросли снова заколыхались и разошлись под острым носом каноэ, уходя в глубину, по сторонам от лодки заплясала сверкающая зыбь, омывая нос и корму – шлеп! шлеп! – покатились мягкие волны. Кент опять встал на колени. Отполированное весло взлетело, погрузилось в воду, снова взлетело и погрузилось вновь. Птицы остались далеко позади, но гомон их еще долго стоял у него в ушах, покуда в мягком плеске весла не утонули все прочие звуки, а море не превратилось в океан безмолвия.
Не было ветра, чтобы остудить горячий пот на щеках и груди. Солнце выжгло перед ним огненную тропу, по ней он и вел свое каноэ через пустыню вод. Неподвижный океан расступался, пропуская лодку, и сминался зыбью за бортами, звеня, искрясь и пенясь, как невинный и веселый лесной ручеек. Человек в лодке окинул взглядом бескрайнюю равнину вод, и страх перед страхом снова поднялся из глубин его души и стиснул горло. Опустив голову, словно израненный бык, он вытряхнул из себя этот страх и вонзил в воду весло по-мясницки, по самую рукоять.
И вот, наконец, он подошел к стене тумана. Поначалу тот был разреженный, легкий и прохладный, но постепенно прогревался и делался всё плотней, и страх перед страхом вцепился ему в загривок, но человек в лодке продолжал грести не оглядываясь.
Каноэ устремилось в туман, серые волны катились ему навстречу – высокие, вровень с бортами, глянцевитые и бесшумные. Густые столбы, окутанные клочьями сумрака, плыли над водой, отбрасывая на лодку мелькающие пятна теней. Исполинские фигуры, сотканные из пара, вздымались до небес и там, на головокружительной высоте, распадались на облака, обрывками погребальных пелен неподвижно повисавшие над морем. Гигантские полотнища тумана дрожали и колыхались, потревоженные ходом каноэ, белесый полумрак сгущался, сменяясь угрюмой мглой. Но вот наконец посветлело, туман поредел и превратился в дымку, дымка – в легкое марево, а марево разошлось и растворилось без следа в ясной синеве небес.
Переливаясь жемчугами и сапфирами, море плескалось на серебристой отмели.
Вот так Кент и приплыл на Остров Горя.
III
Волны накатывали на серебристую отмель одна за одной, рассыпаясь толчеными опалами и разливаясь шипящей пеной на звонких песках. Вспорхнули стайки береговых птичек: раскрыв крылья, ярко блеснувшие под солнцем, они понеслись прочь от воды – туда, где раскинулся белый пляж, опушенный лесом, испятнанный тенями деревьев.
Вода кругом была мелкой и прозрачной, как хрусталь: сквозь нее виднелись и складки песка на дне, и пурпурные водоросли, и крошечные морские твари, кишевшие под водой и прыскавшие врассыпную от каждого удара весла.
Мягко, точно бархат по бархату, каноэ заскользило днищем по песку.
Беглец поднялся, шатаясь, и кое-как перешагнул через борт. Спотыкаясь, выволок лодку на берег, под деревья, перевернул ее кверху дном и сам рухнул рядом, лицом в песок. Страх перед страхом ушел, отступил перед усталостью, но голод, жажда и лихорадка сражались со сном, и Баду Кенту снилась веревка, терзавшая его шею, снилась лесная погоня и выстрелы. Снился лагерь и его сорок фунтов сосновой смолы, и Талли, и Бейтс. Снился костер и закопченный чайник, вонь заплесневелых одеял, засаленные игральные карты и его новая, с иголочки, колода, которую он несколько недель прятал от ребят, чтобы сделать им приятный сюрприз. Все это мелькало под его закрытыми веками, пока он лежал ничком, носом в песок, и только лицо мертвеца так ему и не приснилось.
Тени листвы мелькали на его белокурой стриженой голове. Вокруг порхала бабочка, присаживаясь то на ногу спящего, то на тыльную сторону бронзовой от загара руки. От полудня и до самого вечера гудели пчелы, собиравшие мед на деревьях, что стояли в полном цвету. Листья едва шелестели, птички вернулись на берег и расселись вдоль кромки воды, слабый прилив сонно полз по песку, а в нем отражалось небо. Подкрались сумерки – и зенит потускнел, где-то далеко в лесу шевельнулся ветерок, звезда блеснула и погасла, разгорелась вновь, мигнула и вновь засияла.
Наступила ночь. Под деревьями заметались ночные бабочки, жук, круживший над грудой водорослей, упал на песок и затих. Где-то за деревьями прорезался звук – журчание лесного ручейка, льющееся бесконечной мелодией. Беглец слышал его сквозь сон, музыка ручья пронизывала все его видения, словно серебряной иглой, и колола его, как иглой – колола пересохшее