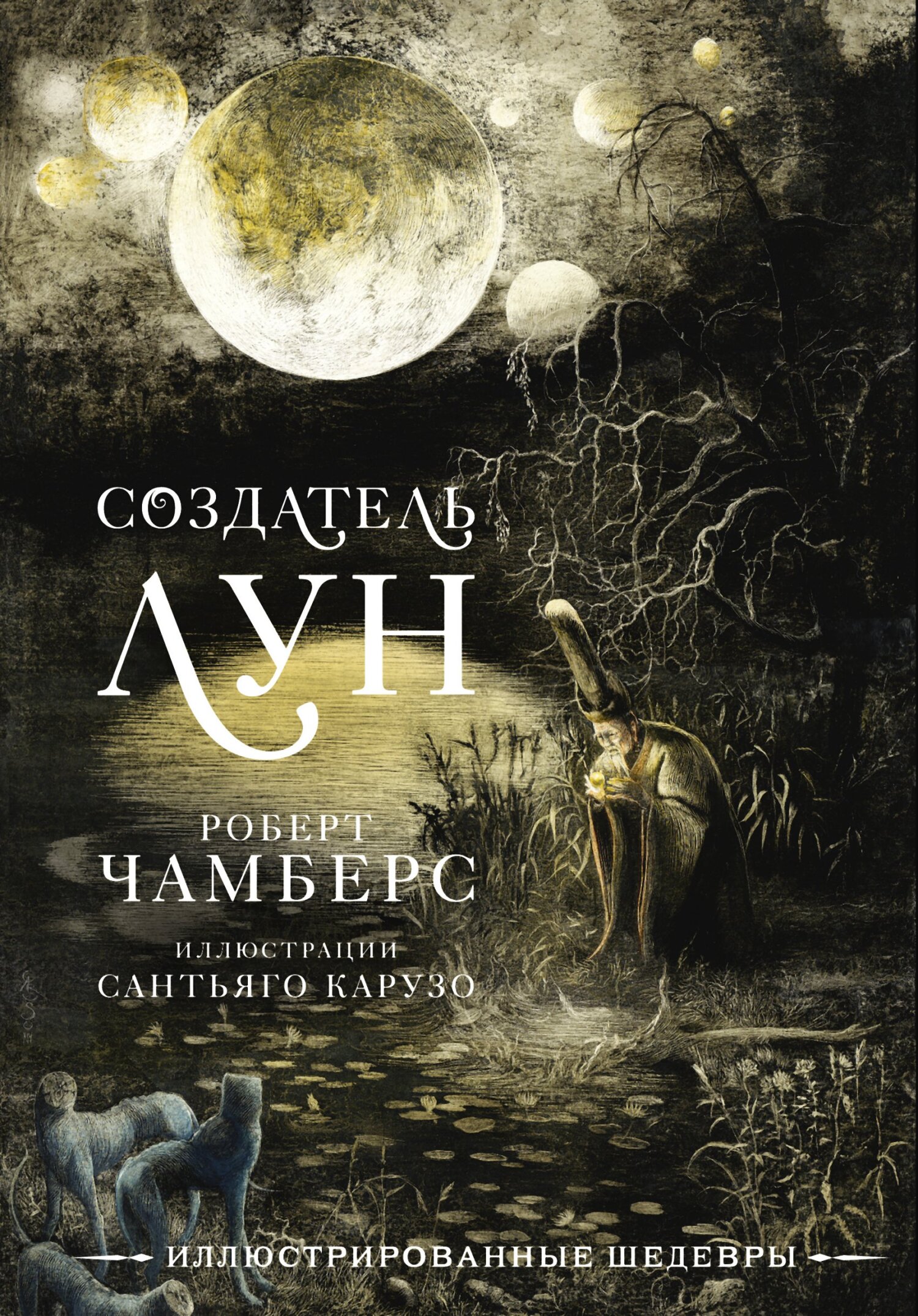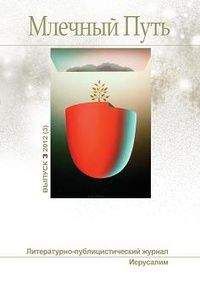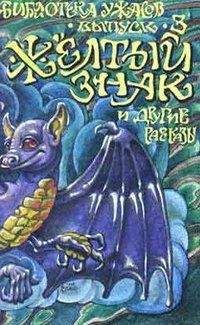горло и растрескавшиеся губы. Но он продолжал спать, спеленутый от головы до пят ночной прохладой.
Ближе к рассвету проснулась и запищала птица. Встрепенулись и другие – растревоженные, еще полусонные. Чайка на берегу расправила смятое крыло, почистила перья, взъерошила клювом пух, сделала пару шагов к морю и снова задремала.
Из-за туманной отмели повеял бриз, под ветром встопорщились перья спящих чаек, зашелестели листья в лесу. Хрустнула ветка, переломилась и упала. Кент шевельнулся, вздрогнул всем телом и пробудился. Первым делом он услышал песню ручья – и, спотыкаясь, поплелся на звук. Ручеек отыскался сразу за деревьями – узкий, но глубокий, он едва мерцал в сером утреннем свете. Кент лег на живот и окунул лицо в воду. Рядом с ним из лужицы пила птичка – пушистая, с блестящими глазами, совершенно бесстрашная. Когда он наконец встал, не обращая внимания на капли, стекавшие по губам и подбородку, ноги держали его уже тверже.
Он достал нож, выкопал несколько белых корешков, выступавших из-под земли на берегу, отскреб их ножом от грязи, ополоснул в лужице и съел. Когда он вернулся к лодке, уже совсем рассвело, но вечная пелена тумана, висевшая вдали над морем, еще скрывала солнце из виду. Кент поднял каноэ, водрузил его себе на голову днищем кверху и отнес в чащу, прихватив заодно весло и шест. Там поставил его на землю и постоял немного, в задумчивости поигрывая складным ножом, то выкидывая, то пряча лезвие. Затем окинул взглядом деревья. Там были птицы, оставалось только придумать, как до них добраться. Посмотрел на ручей. Песок хранил следы его пальцев, но было и кое-что еще: смахивало на след острого оленьего копыта.
У Кента не было ничего, кроме ножа. Он снова выкинул лезвие и уставился на него.
В тот день он питался моллюсками: выкапывал их из песка и поедал сырыми. Побродил по мелководью, пытаясь бить рыбу шестом, но поймал только желтого краба. Надо было как-то развести огонь. Он нашел камешки, с виду похожие на кремни, и собрал горку высохших на солнце водорослей. Попытался высечь искру, но только содрал себе в кровь костяшки.
Ночью он слышал оленя и никак не мог заснуть: все думал и думал. Наконец за стеной тумана рассвело, и Кент поднялся, напился из ручья и поел еще моллюсков, раздирая их белоснежными зубами. И снова началась борьба за огонь. Кент жаждал огня так, как никогда не жаждал воду, но все было напрасно: кровь капала со сбитых пальцев, а нож без толку чиркал по кремню.
С головой тоже было что-то неладно. Казалось, белый пляж вздымается и опадает, как огромный ковер на ветру, а птицы, бегавшие по пляжу, вдруг стали большими и жирными, как куропатки. Кент гонялся за ними, швыряясь раковинами и кусками плавника, пока не почувствовал, что валится с ног: пляж – или ковер, или что там это было – так и ходил ходуном, долго по такому не побегаешь. Той ночью олени будили его несколько раз: Кент слышал, как они плещутся в ручье, храпят и хрустят ветками. Наконец, он вскочил и попытался подкрасться к ним, держа нож наготове, но оступился, упал в ручей и только тут сообразил, какая это глупая затея. Дрожа, он побрел обратно к лодке: дорогу пришлось искать ощупью.
Настало утро – и он снова пришел к ручью, напился и полежал на песке, пестревшем свежими следами копыт, похожими на сердечки. Потом набрал моллюсков и глотал их сырыми, выковыривая из раковин, кривясь и скуля. Сухими блестящими глазами он смотрел на белый пляж – тот по-прежнему колыхался, то вспухая горбом, то опадая, и так целый день. Время от времени Кент опять начинал гоняться за береговыми птицами, но вскоре падал, растянувшись во весь рост: коварный песок так и норовил поставить ему подножку. Беглец поднимался со стоном, отползал под тень деревьев и, не прекращая постанывать, следил за певчими птичками, перепархивавшими с ветки на ветку.
Его руки, липкие от крови, продолжали машинально бить кремнем о сталь, но Кент так ослабел, что уже не мог высечь даже холодной искры. Он подумал о грядущей ночи – и ему стало страшно: вдруг он опять услышит, как большие теплые олени ломятся через кусты? Страх схватил его за горло. Кент наклонил голову, стиснул зубы и снова по старой привычке вытряс его вон. Потом побрел куда-то в чащу, безо всякой цели, размахивая на ходу израненными руками, пробираясь через кустарник, натыкаясь на стволы, ступая по мягкому мху, валежнику и заплесневелым кочкам.
Солнце уже садилось за пеленой тумана, когда он вышел из леса на другой пляж – теплый, ласковый, расцвеченный алыми отсветами вечерних облаков. И там, на песке, он увидел спящую девушку, окутанную лишь шелковистым покровом длинных черных волос, с телом стройным и гладким, с кожей нежной и смуглой, точно дивный цветок, расцветший на желто-рыжем прибрежном песке. Чайка с криком пронеслась у нее над головой, и глаза – глубокие и темные, как ночь, – открылись. Затем приоткрылись и губы с тихим, еще полусонным возгласом:
– И-хо! – Девушка встала, протирая бархатные глаза. – И-хо! – изумленно вскричала она опять. – И-наа!
Золотистый песок улегся под ее узкими стопами. Щеки ее заалели.
– И-хо! И-хо! – прошептала она и спрятала лицо в волосах.
IV
Звездный мост изогнулся над морями небес, от берега до берега, день за днем, ночь за ночью по нему ходят солнце и луна. В вигвамах исанти [11] об этом знали давно, сотни лет. Часке поведал это Харпаму, а Харпам рассказал Хапеде, от нее знание перешло к Харке, а от Виноны – к Вехарке [12]. Вести расходились вширь, как круги по воде, переплетались, как уто́к с основой, и, наконец, достигли Острова Горя. Какими путями? Бог весть! Может статься, Вехарку, щебетавшую в камышах, подслушал Не-ка, высоко в ноябрьских тучах Не-ка поведал об этом Кей-ошку, а тот рассказал Шингебису, а тот рассказал Скииске, а та – Сэсоке [13]. И-хо! И-наа! Ну, не диво ли? Такова участь всякого знания, что приходит на Остров Горя.
Красное зарево гасло, тени ползли по песку. Девушка раздвинула шелковый занавес волос и посмотрела на незнакомца.
– И-хо! – вновь прошептала она в тихом восторге.
Ибо она поняла, что он – это солнце! В синих сумерках он перешел звездный мост; он пришел к ней!
– И-то!
Она шагнула ближе, дрожа и млея в экстазе: ей явилось святое чудо!
Он – Солнце! Кровь его струится в небесах на рассвете, кровь его пятнает