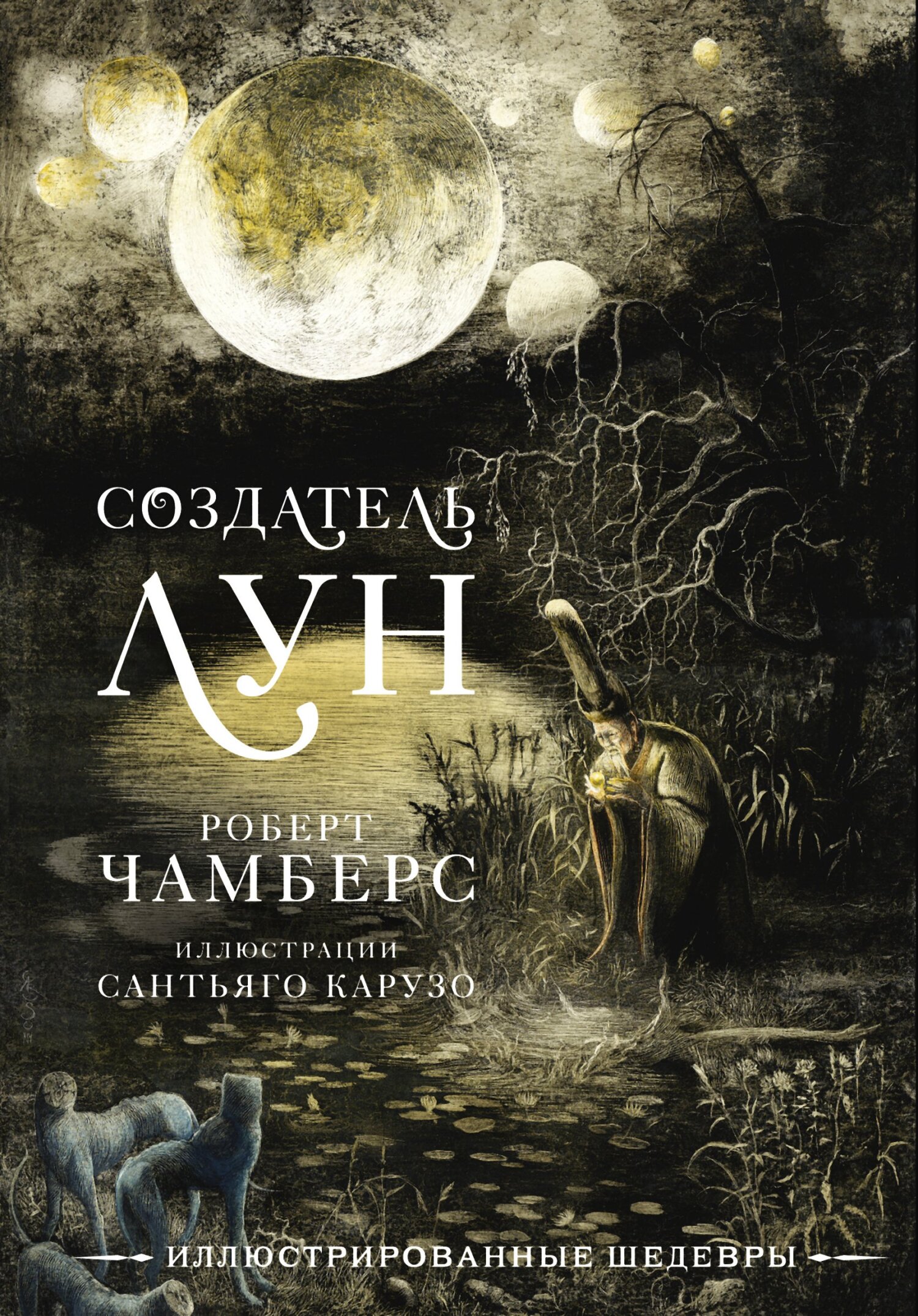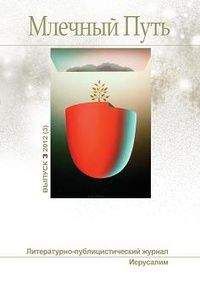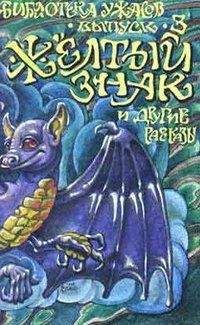валящуюся навзничь в кусты. Оказалось, он помнит и суд – весь до последней мелочи: руку Бейтса, лежащую у него на плече, и Талли – рыжебородого, с дикими глазами. Талли требовал его смерти, а Дайс всё сплевывал и сплевывал сквозь зубы, затягивался трубкой и пинал черные концы поленьев, торчавшие из костра. Помнил он и приговор, и ужасный смех Талли, и новую джутовую веревку, которую сняли с упаковок смолы, уже увязанных на продажу.
Иногда он вспоминал об этом, бродя по мелководью с рыболовным копьем – длинной палкой, на которую была насажена острая раковина, и тогда рыбе удавалось уйти. Иногда он задумывался об этом, стоя на коленях у лесного ручья и вслушиваясь сквозь шум воды, не плеснет Та-хинка в зарослях жерухи, и тогда оперенный прут пролетал далеко мимо цели и со свистом уносился в лес, Та-мдока топал и фыркал, и даже белая рысь, отдыхавшая на гнилой колоде, прижимала усы и ускользала в темную, глубокую чащу.
Когда ребенку исполнился год – часы и часы, отмеренные закатами и восходами, – он уже вовсю болтал с птицами и окликал Не-ка, дикого гуся, а тот отвечал из поднебесья: «На север! На север, любимый!»
Но когда пришла зима – а на Острове Горя не бывает морозов, – Не-ка, дикий гусь, пролетая высоко в облаках, закричал иначе: «На юг! На юг, любимый!». И ребенок отвечал тихим шепотом на неизвестном языке, пока мать не задрожала и не прикрыла ему лицо шелком своих волос.
– О мой любимый! – сказала девушка. – Часке окликает всех живых существ – и Кауга-дикобраза, и Вабозе, и серую чайку, Кай-ошка. Он зовет их всех, и они его понимают.
Кент наклонился и посмотрел ей в глаза.
– Тише, любимая. Это не то, что меня пугает.
– Что же, любимый?
– Его тень. Она белая, как пена на волнах. А по ночам… я видел…
– Что?
– Воздух вокруг него пылает, как бледная роза.
– Ма канте масека. Остается только земля. Я говорю как на пороге смерти… я знаю, любимый!
И голос ее развеялся, как летний ветер.
– Любимая! – воскликнул он.
Но она преображалась у него на глазах: воздух подернулся дымкой, волосы разлетелись клочьями мглы, стройная фигура закачалась, растворяясь и тая, заклубилась, как туман над прудом.
И дитя у нее на руках стало туманной фигурой, розоватой и смутной, словно след от дыхания на зеркальном стекле.
– Остается только земля. И-на! Это конец, любимый!
Эти слова вышли из тумана – тумана, бесформенного, как эфир; тумана, что обступил его со всех сторон, нахлынув отовсюду разом: с моря, с облаков, от земли у него под ногами. Обмирая от ужаса, он шагнул вперед, протягивая руки:
– Любимая! И ты, Часке! О любимая! Аке-у! Аке-у!
Далеко над морем, в тумане, вспыхнула и тотчас погасла розовая звезда.
Закричала морская птица, взмыв над пустыней вод, затянутой туманом. И снова он увидел розовую звезду – она стала ближе, замерцала, отразилась в воде.
– Часке! – выкрикнул он.
Ему ответил голос, приглушенный удушливым туманом.
– О любимая, я здесь! – снова крикнул он.
Плеск на мелководье, всполох в тумане, пламя факела… И лицо – белое, мертвенно-бледное, ужасное – лицо мертвеца. Он упал на колени, закрыл глаза и снова открыл. Перед ним стоял Талли с мотком веревки.
* * *
И-хо! Смотри: это конец! Остается только земля. И песок, и опаловая волна на золотистом пляже, и сапфирное море, и звездная пыль, и ветер, и любовь – всё умрет. И сама смерть тоже умрет и ляжет на берегах небес, точно выбеленный солнцем череп, что так и остался лежать у Врат Горя – блестящий, пустой, впившийся зубами в песок.
Я слышал, о чем говорили говоруны,
их говор о начале и конце,
Я же не говорю ни о начале, ни о конце.
Уолт Уитмен, «Песня о себе», пер. К. Чуковского
I
О Юэ Лао и Сине я не знаю больше, чем вы. Это дело тревожит меня необычайно, и я убежден, что его необходимо прояснить. Возможно, то, что я пишу, поможет правительству Соединенных Штатов сберечь деньги и жизни. Возможно, это побудит к действию научный мир, но даже если нет – это положит конец ужасной неопределенности, в которой томятся по меньшей мере двое.
Точное знание всегда лучше неопределенности. Если правительство пропустит мое предупреждение мимо ушей и не отправит сей же час основательно снаряженную экспедицию, жители штата могут взять дело в свои руки, и тогда на месте нынешних лесов и цветущих лугов по берегам озера в Кардинальских лесах останется лишь черная, выжженная пустошь.
Часть истории вы уже знаете: газеты Нью-Йорка наперебой кричали о так называемых подробностях.
Наверняка известно не так уж много: Баррис поймал «Блескуна» на горячем – если не сказать «на блестящем»: золотом у него были набиты не только карманы, но и ботинки, и даже в грязных кулаках он сжимал пару золотых слитков. Золотом я это зову намеренно. Вы-то можете называть как хотите. И вам известно, что за птица был этот Баррис… а, впрочем, если я не начну с начала и не изложу по порядку обо всем, что мне довелось пережить, проку вам от моего рассказа не будет.
Третьего августа сего года я стоял в магазине «Тиффани» и беседовал с Джорджем Годфри из отдела оформления. На стеклянном прилавке между нами лежала свернувшаяся кольцами змея – изысканный образчик точеного золота.
– Нет, – ответил Годфри, – это не моя работа. И очень жаль. Это же настоящий шедевр, дружище!
– А чья? – спросил я.
– Я и сам был бы счастлив узнать, – сказал Годфри. – Мы купили ее у одного старого прохиндея. Говорит, что живет в деревне, где-то в районе Кардинальских лесов. По-моему, это рядом с Озером Звездного Света…
– Звездным озером? – уточнил я.
– Ну, кое-кто зовет его Озером Звездного Света, но это без разницы. Так вот, этот мой сельский Рувим заявил, что выступает от лица ваятеля, создавшего эту змею. Представляет его, так сказать, для всех практических и деловых целей. И, само собой, не задаром. Мы надеемся, он принесет еще что-нибудь. А это мы уже продали музею Метрополитен.
Лениво облокотясь на стеклянную витрину, я следил за пристальным, опытным взглядом золотых дел мастера, склонившегося над рукотворной змеей.
– Шедевр! – бормотал он себе под нос, поглаживая блестящие кольца. – Нет, ты только посмотри на текстуру! Во дает!
Но я уже не смотрел