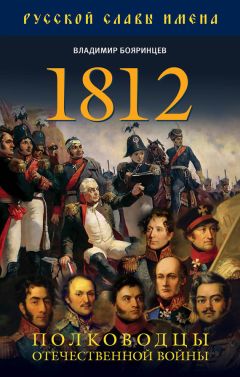Карета, запряженная парой гнедых, прокладывает себе путь сквозь толпу. Люди неохотно расступаются, открывая приехавшим обзор на площадь.
Плывет в сторону занавеска, за черным стеклом окошка проступает овал бледного лица. Светлые локоны спадают из-под капора. Лихорадочно блестящие глаза, искусанные красные губы…
«Анна! Бог мой, Анна!» — ухает сердце Корсакова.
Драгунский офицер, подскакав к карете, склоняется в седле, энергично жестикулируя. Кучер разворачивает карету. Последний взгляд…
«Анна!» — Сердце рвется из груди.
Корсаков заставляет себя отвернуться.
В морозном воздухе плывет надтреснутый голос:
— …при Бородине и под Малоярославцем. Вместе с вами лил кровь при Темпельберге и Лейпциге! Вы помните меня, солдаты? Когда я кланялся пулям? — Всадник с непокрытой головой горячит коня, гарцуя вдоль каре. Склоняется, заглядывая гренадерам в лица. — Покайтесь, братцы! Государь милостив. Вспомните присягу…
Возмущенные голоса за спиной Корсакова:
— Кто это? Остановить немедленно!
— Генерал-губернатор Милорадович.
— Каховский, ну, что же ты? Стреляй!
Солдаты смущенно отводят глаза, кто-то от души пускает по матушке. Заледеневшие штыки колышутся над головами.
Князь Оболенский, с ружьем наперевес бросается к всаднику.
— Извольте отойти, ваше превосходительство!
Милорадович отмахивается от князя, как от назойливой мухи.
— Против кого? Против самодержца? Против народа, товарищей ваших? Братцы, оглянитесь вокруг! Россия…
Оболенский делает длинный выпад, штык бьет Милорадовича в бок.
Генерал вольт-фасом разворачивает коня.
— Каналья! — взвивается голос Милорадовича.
Бледное худое лицо Каховского кривится, глаз зажмурен, рука с пистолетом вскинута.
С гулким хлопком в воздухе распускается белый цветок порохового дыма. Одиночный выстрел заставляет дрогнуть строй. Словно ветер растревожил стальную осоку штыков.
Пуля попадает Милорадовичу в спину. Он недоуменно оглядывается. На лице непонимание. Налетевший ветер треплет седые волосы на голове генерала. Хватаясь руками за воздух, он падает на круп коня, и сползает на землю.
Ропот тяжело катиться по каре.
Корсаков подлетает, хватает Каховского за отвороты сюртука.
— Ты, гаденыш… Ты в кого стрелял?!
— Пустите, полковник. Пустите немедленно!
У Каховского жалкие глаза и капризно скривленный рот мальчишки, пойманного лицейским цербером.
Корсакова оттаскивают в сторону, успокаивают.
Он нервной походкой идет вдоль строя. Подальше от мальчишек с пугачами, решивших поиграть в войну.
«К черту все! К черту! Скорее бы закончили балаган».
Над площадью плывет призывный голос горна.
Верные царю войска, расступаются, в промежутки выкатывают орудия, суетятся канониры.
Корсаков улыбается.
«Вот и славно!»
Вдоль каре рассыпаются вскрики команд. Строй еще плотнее смыкается. Каре ощетинивается ершом штыков.
Залп!
Стальные шершни картечи рвут строй. Мертво валятся одни, опрокидываются другие, третьи обморочно оседают на подкосившихся ногах. Крики, стоны, кровь…
Тугой шар эха катится над Невой. Пороховой дым застилает площадь.
Еще залп.
Жесткий удар клюет в плечо, и Корсаков лицом падает в истоптанный снег…
Кто-то переворачивает его на спину.
В сером небе беззвучно парят снежинки. Кажется, они сами собой слагаются в странные, угловатые знаки.
Он пытается прочесть загадочные письмена. На удивление, у него получается легко и просто, будто знал этот язык с детства.
Чья-то тень закрывает небо.
— Не мешайте! — кричит Корсаков.
Но из горла вырывается только хрип.
— Этот еще жив, — доносится откуда-то сверху.
* * *
— Я живой… Живой, пустите!
— Живой, конечно живой. Ты чего, Игорек?
Корсаков с трудом открыл глаза.
Голова кружилась, виски ломило нестерпимо. Застонав, он пошарил возле себя, и, опираясь на руки сел. Как сквозь туман, он разглядел в полумраке лицо Примака. Леня улыбался.
Пахло хлоркой и ночлежкой. Осторожно поворачивая голову, Корсаков осмотрелся.
Маленькая комната, с крашеными темной краской стенами, тусклая лампочка, дверь из стальных прутьев. На лавке возле стены похрапывали Константин и Герман. Возле двери, согнувшись в три погибели, раскачивался мужик в пальто, с полуоторванным воротником, на голом теле и галошах на босую ногу. Он с тупым упорством толкал дверь плечом и нечленораздельно чего-то бормотал.
— Замели нас, Игорек. — Леня пошлепал губами ему в самое ухо. — Мусора замели, век свободы не видать!
— Это я уже понял, — с трудом шевеля языком, прошептал Корсаков. — За что?
Примак помялся.
— Видишь, дело какое… Я на тебя понадеялся. Думал, остановишь, когда у меня уж совсем крышу сорвет. А ты первым вырубился. А они, — он кивнул в сторону спящих, — как с цепи сорвались. Особенно Герасим.
— Герман его зовут, — вспомнил Корсаков. — Как Геринга.
Интеллектуальное усилие отозвалось в голове тупой болью.
— Еб… — Корсаков сдавил ладонями виски. — Башка сейчас взорвется. Слушай, что мы пили?
— Много чего, — уклончиво ответил Леня.
— Уф! Сушняк какой, аж горло до кишок пересохло. Повязали за что?
— Было за что. — Леня отвел глаза. — Ладно, ты очнулся, и то хорошо. Пора отсюда выбираться.
Он подошел к двери, отодвинул мужика, и, ухватившись за прутья, потряс, громыхнув засовом:
— Эй, сержант, поговорить надо.
Послышались шаркающие шаги. Сержант, дожевывая на ходу бутерброд, подошел к решетке.
— Чего буянишь, урод?
— Я — известный… — начал Примак.
— Пусти, начальник! — Мужик в пальто, увидев сержанта, оживился. Отпихнул Примака, он вцепился в решетку. — Пусти по нужде, начальник. Не могу терпеть!
— Я — известный художник Леонид Примак! — в свою очередь, оттерев бомжа, повысил голос Леня. — Мои картины находятся во многих музеях мира. У самого Михаила Сергеевича Горбачева…