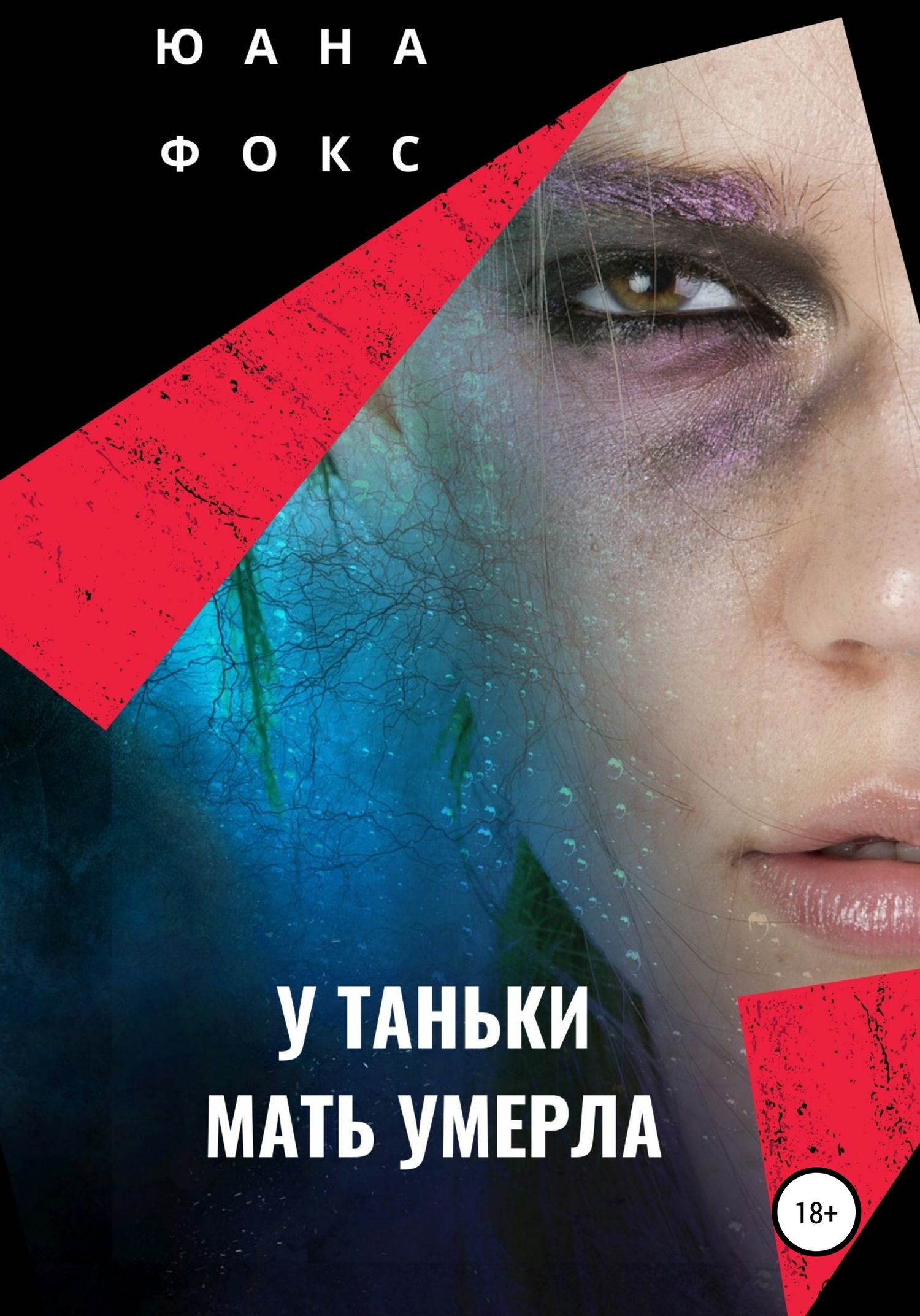и не открывает. А Газизовна такая через дверь: «Кто там?!» Этим голосом алкашечным, как мужик! Ну тогда уж ты мне не гони давай, что уж ты-то никуда-ничево, ты б тоже, как метлой сдулась оттудова!
– Ну, незнай…
– Незнай она, а я знай! Села дома и сижу, прям под вешалкой, где обувь. И чё делать, не знаю. Ну, вышла попозжа, в садок под окном пробралась – там у нас садочки, где первые этажи, да знаешь ты.
– Ну, знаю! И чё, и чё?
– И прокралась, а на кухне свет горит у Газиз… ой, у Таньки, то есть! А шторки-то прикрыли, собаки такие! Но окно плохо закрытое, я палку просунула и шторку отодвинула!
– Ну ты догада!
– А то! Дура я тебе, что ль? Конечно! И вот, шторка разъехалась малость, а я гляжу! А там – вот те крест! – Газизовна!!! И что факт: водку пьёт сидит!
– Ну-у-у… а это… может, тётка её, Танькина?
– Да какая тётка, что ты всё споришь, а?! Говорю тебе, христом, что ль, уже тут махать, Газизовна была! Сидит, водку пьёт и ниче такая, нормальная! Я обосралась, где была, пригнулась, да всё равно на ящик с-под помидор залезла и гляжу, как не в себя! Самой аж выть хочется, до того жуть! А она сидит, толстомясая, в той сорочке самой, в которой курила с окна и в магаз бегала! Тьфу, титьки насквозь видать, а ей всё одно – наливает да пьёт! Танька серая вся стоит, к косяку прислонилась. И лепечет: «Мама, не положено это, померла же ты!»
– Хосспади, благослови…
– Кого те благословлять? Стоит она, лепечет, а мамка ей отвечает, мол, ты ничё не умеешь сама, из-за тебя я спилась, из-за тебя и померла!
– Вот же сука! А Танька чё?!
– И не говори! Я ж чуть в окно не сунулась да не заорала: «Рак у тебя был, дура смертная, чё ты на девку всё навяливаешь?»
– Вот-вот! Так бы и дала по башке бутылкой, зараза!
– Ага, только не было там тебя! Я вот не дала. Как сидела молчком-крючком, так и сижу! И слушаю, а та говорит: «Рак у тебя был, причём тут я?» Уже чуть орать не начала, ребёнка разбудила или чего, в общем, на кухню малышок зашёл, ой, господи… У меня, знаешь, чуть грудь не разорвалась…
– Сердце-то не собачье!
– И не говори! Это ж до чего… ну да, Таньку тоже можно уж понять, по-нашему, по-бабьи… Хорохорься на людях сколько влезет, а когда дома такое… Эх, жиза! В общем, дитё зашёл на кухню, лепечет: «Баба, баба!» А баба и ухом пьяным не ведёт, всё свое долдонит: «И рак у меня из-за тебя, что ты меня опозорила, муж от тебя сбежал! Негоже это, чтобы без мужа да с дитём!»
– Ну и су-у-у-ука же!
– Да, вот она и есть!
– А Татьяна что?
– А Татьяна сына оттащила от «бабы», тьфу, на руки подняла, а он брыкается, к бабе хочет! Наорала, конечно, шлёпнула, чупа-чупс сунула, ну тот и унялся. Дитю-то много не надо!
– Зато этой надо!
– Уж этой на-а-а-адо, это точно! И такая своё гнёт: «Нет, не умеешь ты ни хрена, мне даже в могиле лежать из-за тебя невозможно прям!» Уж, грит, думала, всё, отмучилась! Да говорит, знаю уж, ты без меня совсем по миру того, с протянутой рукой, и ребёнка в детдом! Не отдам, говорит, кровиночку! А сама шары так и заливает! Уже вторую, третью ли, с-под стола достала и зубищами открывает!
– Слуш, а зубища-то чё, как в кино показывают? Ну, огромные?
– Дак огромные, как и были у Газизовны, не помнишь, что ль?
– Чего мне помнить её, тоже мне, подружайка! Я ж сколько лет в том доме не живу, как второй раз замуж вышла…
– Вот ты-то всё гордись, что второй, а кто-то – ни одного! Я те про Фому, ты мне про Ерёму!
– Да ладно, не звезди! Чё те мои мужья, давай про покойницу!
– Да так покойница-то сидит и долдонит, сидит и долдонит… Как Танька там с ума не сошла и хату всю к херам не спалила? Я диву даюсь! Ну оно и хорошо, конечно, а то б мы щас тут не стояли бы…
– Ты чёт ещё про мужа ейного говорила…
– Вот ты опять за своё! Всё те мужья покою не дают!
– Да че мне, ты ж говорила! Сказала «а» – давай и «б»!
– Давай ей «б»… давай без бэ! Ну муж, да! Точно, щас! Вот сидит эта пьянь мёртвая и мозги выносит: «Не умеешь ты, доченька, жить! Совсем не умеешь! Говорила я те, пропадёшь без мамочки, так хоть мужик у тя был, и тот сгинул, не вынес тебя, дуры-нерадёхи!» Я ж, говорит, те подмогнуть пришла! Помирю уж вас, так и быть! А потом пойду, а то, говорит, не идётся мне на тот свет никак!
– И чего, чего дальше-то?! Танька, небось, тут и мордою её об стол?
– Почему мордой об стол?
– Ну, незнай, я б так сделала!
– Вот и сделала бы, за других-то мы все умные! А Танька как стояла, так и села на жопу ровно. Потому что мамашка её такая в коридор высунулась и орёт туда: «Николай, Николаша!» Айда, орёт, зайди! И орёт, согласна она!
– Николаша… это этот, что ль?
– Дак он! Пенёк с ушами обоссаный! Как есть, обоссанный и зашёл! Я сразу поняла: и этот неживой – как пахнуло на меня и водярой, и землёй, и червяками дождевыми, и этими… как их? Ну, как досками мокрыми, что ль. А, и бензин ещё!
– Ну-у-у-у-у!!!
– Ну! Баранки гну! Танька уже и не дышит, только сына прикрыла, вся в комок, как одеяло постиранное, скрючилась. А я то на неё, то на Коленьку-покойника, про мамашу чуть не забыла уж. Да что мамаша – она хоть не гниёт, а Николай-то уж и пятнами весь пошёл, ну, трупьими!
– Трупными!
– А? А, да какая к херам разница, хоть тулупьими, хоть залупьими, а главное, что вот он прям вот тут, передо мной стоял. И вонял, как собака немытая, а ты мне тут ещё поправлять будешь!
– Ну извини, чё! Да ты рассказывай, рассказывай!
– Да стоит он, знаешь, прям напротив меня и нудит голосом, как жук-навозник такой противный, в нос! Чего ты, нудит, жена, мужа не встречаешь, я ж, говорит, из земли тяжёлой вылез, чтоб тебя, дорогая, обнять, а ты как была баба нерадивая, так и есть!
– Во-о-о-от