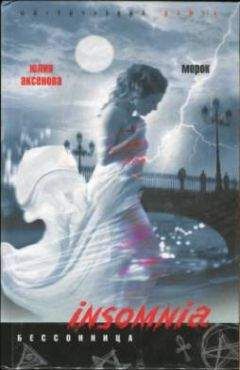Потом были годы, наполненные азартом работы. Потом чудный девяносто седьмой…
Виктор знал, что заразился от русских этой манерой маркировать жизнь — как общественную, так и личную — номерами годов. Вместо цифр собственного возраста, вместо названий значимых событий — календарными эвфемизмами: в семнадцатом, после тридцать седьмого, еще до девяносто первого, как в девяносто третьем.
Для него особенно хорошим был девяносто седьмой. Год огромного творческого подъема — просто полета, который окончился лестным предложением от руководства компании. А в начале девяносто восьмого он уже вернулся в Лондон, сразу скакнув через несколько ступенек — приглашенный вести не просто новости, а итоговую пятничную программу, и с тех пор бывал в России только наездами.
Как во всем мире, здесь больше всего говорили о ценах, любви и войне. Никто не мог точно ответить, какая по счету чеченская кампания развернута в настоящий момент, но помнили наперечет все денежные реформы…
Ближе к Москве тучи расступились, опять ослепительно засверкал под лучами низкого, но такого яркого зимнего солнца снег. Самолет пошел на снижение.
* * *
Сегодня — славный денек. Как я люблю солнце: оно без следа развеет любую тоску! На градуснике за стеклами — минус, двадцать три. А в квартире батареи калят от души, поэтому, стоя в струящихся из окна солнечных лучах, невозможно отделаться от ощущения, что наступила весна, что нужно надеть короткую юбку и непременно легкое пальто — иначе запаришься, и что с работы вернешься засветло и еще при дневном свете успеешь пройтись по рынку.
Я люблю эти январские иллюзии: ведь солнце и вправду повернуло на лето, и все, что сейчас только чудится, о чем мечтается, скоро сбудется наяву… Все, что касается природы…
Поганое, не новогоднее настроение последних дней улетучилось. Вот что значит Рождество!
Я рада, что сегодня холодно, и можно надеть не бесформенную демисезонную куртку, а мою любимую дубленку, которая фантастически удлиняет и облагораживает фигуру, превращая тебя в какую-то ионическую колонну.
Как это ни смешно, но именно сегодня я вновь надеваю свой шелковый шарфик. Еще перед Новым годом бросила его в стирку, потом он пересох на веревке, потом лежал несколько дней, а мне то лень, то недосуг было погладить.
Мама, конечно, попыталась воззвать к моему здравому смыслу: такой мороз, а я — шелковый шарфик!.. Я мирно промолчала, дала ей время вспомнить, что я, во-первых, все равно сделаю, как считаю нужным, а во-вторых, проходила так весь на редкость морозный декабрь — и ничего со мной не случилось.
Я — не закаленная, наоборот, еще та мерзлячка. И шарфик мне не для форсу. Он меня греет. И веселит. У него такой чудесный солнечный цвет! С чем бы сравнить? С серединкой солнечного цветка одуванчика, пожалуй. Он как будто светится изнутри и освещает любой пасмурный день, любую хмурую ночь.
Я привезла его из Франции. Угрохала большую часть денег, которые брала с собой. В каком же городе я его купила? В Реймсе, должно быть. Или в Париже.
Не знаю, что буду делать, когда он заносится, застирается, порвется! Он благополучно выдержал уже несколько стирок, ничуть не полинял. И отстирывается пока до первозданной чистоты. Тьфу-тьфу, не сглазить бы! Я просто не могу отказать себе в удовольствии носить его каждый день! Если не носить — то хотя бы просто держать при себе. Что называется, моя вещь.
Ах, будь что будет! Раз сегодня холодно, складываю шарфик вдвое и обматываю вокруг шеи… Теперь беретку… Платок в кармане… Перчатки…
— Мам, я пройдусь немножко. Что на рынке купить? Думаешь, не работает? Вообще, да, наверное. Ну, тогда в магазин, в «Зеленый дом», он точно работает. Да нет, там ненамного дороже; а у нас кефир кончился.
* * *
Президент на ногах перехаживал грипп. Он держался бодро, но болезненное состояние выдавали покрасневшие глаза, которые он невольно щурил в ярком свете софитов, и вопреки воздействию сильных лекарств кашель, прорывавшийся время от времени.
Время, отведенное на интервью, подходило к концу: они беседовали уже чуть больше часа. Ритуальный чай, едва пригубленный, давно остыл. Виктор заметил, как премьер потер подлокотники кресла, мол, не пора ли прощаться с господами журналистами, а то у нас еще много дел. Но президент неожиданно заметил вслух, что никому из присутствующих так и не удалось выпить чаю, и предложил сделать это теперь. Попросил помощников налить всем горячего чаю. Виктор понял это как приглашение к неформальной части беседы. В живом разговоре обо всем на свете уже он сам, Виктор Смит, станет главной темой, объектом расспросов российского лидера. Что ж, нормальная практика. Как правило, если беседа принимает такой оборот, жди интересных предложений или подарков.
Непринужденно исполняя ритуал беседы «за чашкой чая», Виктор прикидывал, о чем попросить российского президента, когда настанет момент. Была у него одна сумасшедшая идея… Озвучив ее, Виктор рисковал остаться ни с чем, но ни в чем другом ему, откровенно говоря, помощь российских властей не требовалась. Наконец президент осведомился о его творческих планах, ловко увязав их в одной фразе с вопросом о том, чем мистер Смит намерен заняться в оставшиеся несколько дней своей российской командировки. Виктор понял, что момент настал.
— У меня есть одна давняя мечта, — начал он, подавшись вперед к президенту и как бы перестав замечать соотечественника.
Виктор просто и кратко изложил свою идею. Ему давно хотелось сделать фильм о военной науке, в том числе российской.
— Меня ни в коей мере не интересуют военные тайны, секретные перспективные разработки, — заверил он.
Его интересовали судьбы рассекреченных изобретений и ученых, их создателей. Что происходит после того, как тайное становится явным? Сколь активно внедряются бывшие военные секреты в мирное производство? Кем? Кто помнит имена изобретателей?
Если бы удалось провести исследование здесь, в России, далее он переключился бы на Европу и, возможно, Америку. Получится очень интересно.
— Честно говоря, я пока не знаю, как подступиться к реализации этой идеи. Как вы полагаете, господин президент, — на этот раз Виктор намеренно обратился к главе российского государства официально, а не по имени-отчеству, — моя мечта осуществима?
По тому, как сверкнули утомленные, больные глаза собеседника, Виктор определил, что добился своего: президент услышал в его словах и уважение, и иронию-вызов. Российский лидер взял паузу, обдумывая ответ.