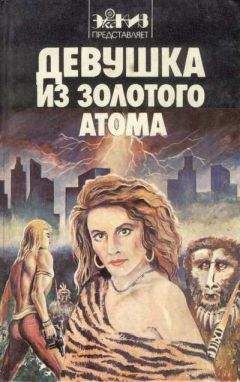Вскоре они почувствовали наше воздействие. Сначала самые слабые ощутили, как затормаживается их мышление. Командиры, будучи чуть поумнее, сразу ничего и не заподозрили, но наша страшная психическая сила, соединенная воедино, стала одолевать и их, и они заметили, что люди уходят от них, дезертируют и возвращаются в корабли. Тогда командиры стали уговаривать их, побуждать к действию силой. И мы стали сосредотачивать свою силу на их начальниках. Сильные и волевые, они уклонялись от нас, вступали в бой — разум против разума. Но напрасно. Их разум был не готов к такому испытанию, и через три оуса борьбы мы, голянки, увидели рождение победы.
Наконец командиры сдались. Улицы опустели. Все детаксальцы находились в кораблях, удерживаемые нашей единой силой воли, не способные ни бороться, ни двигаться. Тогда мы легко набросили на них силовое поле и лучом-аннигилятором уничтожили всех людей и все корабли, обратив их в ничто. Тысячи, сотни тысяч погибли в тот день, и Гола, бесспорно, была отомщена.
Вот так и закончилось второе нашествие на Голу.
Да, не раз еще прилетали с той планеты с желанием узнать, что случилось с их кораблями и людьми. Но мы на Голе действуем решительно: еще не показались из тумана — а уже уничтожены. В конце концов Детаксал отказался от захвата нашего подоблачного мира. Быть может, в будущем они попытаются снова, но мы всегда готовы к встрече с ними, а наши мужчины… да что тут говорить, все те же немощные бездари, доченьки мои…
Джоанна Расс
Больше никаких сказок…
Я часто наблюдала, как наша гостья читает, сидя в гостиной под торшером возле нового радиоприемника: длинные-длинные ноги вытянуты, круг света на страницах почти не освещает лицо; смуглая, черты лица такие резкие, что она выглядит почти уродливой, а волосы, черные с рыжеватым отливом, жесткие, будто из той штуки, которой мама чистит пригоревшие кастрюли и сковородки. В то лето она много читала. Если я рисковала высунуться из ниши, наблюдая за ней, она часто поднимала лицо и улыбалась мне молча, перед тем как снова вернуться к книге, и ее кожа вдруг удивительно сияла, когда по ней скользил свет. Когда она вставала и с журавлиной грацией шла на кухню, чтобы поесть, она едва проходила под потолком: ноги у нее были словно паучьи, руки длинные при очень маленьком туловище — странные пропорции для такого роста. Она смотрела с высоты, такой огромной, на мамины блюда и тарелки, заметно сосредоточенная; задав мне несколько вопросов, она нагибалась над тем, что выбрала, несколько секунд размышляла, как жирафа, затем, опять возносясь в стратосферу, брала тонкой рукой тарелку и уплывала в гостиную. Она опускалась в кресло, которое всегда оказывалось слишком маленьким, пристраивала поудобнее ноги — как я хорошо помню их, длинные, твердые, совершенно неженские — и начинала читать снова.
Она часто спрашивала: «Что это? А что это? А вот то?», но только поначалу.
Моя мама, которой она не нравилась, говорила, что она из цирка, и мы должны понять это и быть к ней добрыми. Мой отец отшучивался. Он не любил больших женщин и коротких стрижек — все это было ново для местечек вроде нашего — или читающих женщин, хотя ему нравилось, когда она интересовалась его столярным искусством.
Но в ней было шесть футов четыре дюйма, и происходило это в 1925 году.
Мой отец был счетоводом, мебель была его хобби; еще у нас была газовая плита, которую он починил, когда она сломалась, а на заднем дворе он сделал своими руками стол и скамейки. До приезда нашей гостьи я все время проводила там, но с тех пор, как мы встретили ее на вокзале и они с папой пожали друг другу руки, — мне кажется, ему было больно при этом — я все время хотела смотреть, как она читает, и ждала, что она заговорит со мной.
— Ты заканчиваешь школу? — спросила она. Я стояла в арке, как всегда.
— Да, — ответила я.
Она снова посмотрела на меня, потом на книгу и сказала: «Это очень плохая книга». Я ничего не ответила, она взглянула на меня и улыбнулась. Не удержавшись, я встала на ковер так неохотно, будто пересекала Сахару; она убрала ноги, и я села. Вблизи ее лицо выглядело так, будто каждая раса мира оставила в нем свою худшую черту: так мог выглядеть американский индеец, или шведоамериканец, или маорийская принцесса с подбородком славянки. Внезапно мне пришло в голову, что она, наверно, негритянка, но больше об этом никто не говорил, скорее всего потому, что никто в нашем городе сроду не видел негров. У нас их не было. Мы говорили «цветные».
Она сказала: «Ты некрасива, правда?»
Я встала.
— Мой папа считает, что вы уродина, — ответила я.
— Тебе шестнадцать, — сказала она, — садись. Я снова села, скрестив руки на груди; ведь она у меня такая большая, прямо как воздушные шары. Тогда она сказала:
— Я читаю очень глупую книгу. Забери ее у меня, ладно?
— Нет, — ответила я.
— Ты должна, — сказала она, — или она меня отравит, клянусь Богом.
Она взяла с колен «Зеленую шляпу» М. Арлена — золотые буквы на зеленом переплете, бестселлер прошлого года, который я поклялась никогда не читать, и протянула его мне. Я подумала, что она сумела бы обхватить баскетбольный мяч. Я не взяла книгу.
— Давай, — сказала она, — возьми, иди и читай.
Я вдруг обнаружила, что стою в проходе на ступеньках и держу в руке «Зеленую шляпу». Я повернула ее так, чтобы заголовок не был виден. Она улыбнулась мне и сложила руки за головой.
— Не переживай, — сказала она. — Твоя фигура будет в моде к началу будущей войны.
Я встретила маму на верху лестницы и едва успела спрятать книгу; мама сказала: «Бедная женщина!» Она несла простыни. Я ушла в свою комнату и читала почти до утра. Потом спрятала книгу в постели, когда закончила. Во сне я видела «испаносюизы», подвитые волосы и трагические глаза; женщин с накрашенными губами, их любовные интрижки. Они жили, как хотели, делали аборты в дорогих швейцарских клиниках; мне снились полуночные купания, отчаяние, деньги, греховная любовь, красивые англичане и поездки с ними в такси, у меня на голове серебряный тюрбан вроде тех, что я видела на страницах светской хроники нью-йоркских газет.
К несчастью, лицо нашей гостьи все время упорно всплывало в моих снах, и это здорово портило все.
Мама обнаружила книгу на следующее утро. Я ее увидела у своей тарелки за завтраком. Ни мама, ни отец словом не обмолвились о ней; только мама накрывала стол с какой-то доброй, вымученной улыбкой. Наконец, мы уселись, и отец придвинул мне джем, булочки и ветчину. Затем он снял очки и, сложив, положил их рядом со своей тарелкой. Откинувшись в кресле, он скрестил ноги. Потом взглянул на книгу и сказал тоном насмешливого удивления: «Ну, что это такое?..»