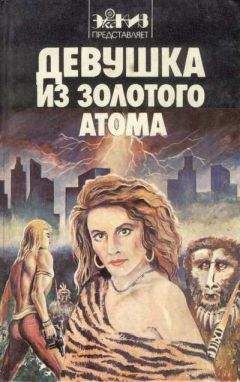— Первой это должна сказать ты.
— Думаю, — сказала я, — что вы из морлоков.
Сидя в снятой у моей мамы комнате с раскрытой книжкой «Машина времени», она ответила:
— Ты совершенно права. Я из морлоков. Я морлок на каникулах. Я только что с последней встречи морлоков, проходившей меж звезд в большой чаше с золотыми рыбками, так что все морлоки висели на стенках, словно стая черных летучих мышей. Нас, морлоков, полтысячи, но мы правим звездами и мирами. Мой черный мундир висит в шкафу.
— Так я и знала, — сказала я.
— Ты всегда права, и остальное ты тоже знаешь. Ты знаешь, какие мы убийцы и как жутко мы живем. Мы ждем большого «ба-бах!», когда разлетится все и даже морлоки погибнут; а пока я дожидаюсь тут сигнала и кладу записочки за раму любительской картинки, что нарисовала твоя мама, — вашей Главной Улицы. Она-то попадет в музей и когда-нибудь мои друзья найдут их. В остальное время я читаю «Машину времени».
Тогда я спросила: «А можно мне с вами?»
— Без тебя все просто рухнет, — мрачно сказала она и достала из шкафа черное платье, сверкающее звездами, серебряные туфли на высоких каблуках.
— Они твои. Их носила моя прапрабабушка, основавшая Орден. Во имя Непреходящей Военной Власти.
И я надела все это. Какая жалость, что она не отсюда.
Каждый год в середине августа Кантри-Клаб устраивал танцы не только для богатых семейств, его членов, но и для некоторых добропорядочных жителей города. На этот раз это должно было быть в новом четырехэтажном особняке из красного кирпича с красивым двором. Но за день до этого заболел отец, и маме пришлось остаться дома и поухаживать за ним. Он полулежал на подушках кушетки в гостиной, чтобы видеть, чем занимается в саду моя мама, и время от времени звать ее. Ему была видна также дорожка к парадной двери. Он уверял маму, что она все делает неправильно. Я даже и спрашивать не стала, можно ли мне пойти на танцы одной. Отец сказал:
— Почему ты не выйдешь и не поможешь своей маме?
— Она не хочет, — сказала я. — Лучше я побуду здесь.
— Бесс! Бесс! — вдруг сердито закричал он и начал давать маме инструкции через окно.
Мама трудилась в саду под кухонным окном; стоя на коленях, она выпалывала сорняки. Наша гостья рядом, дымя сигаретой, подстригала куст сирени. Я сказала тихо-тихо:
— Мама, ну можно мне пойти, ну можно?
Моя мама вытерла рукой лоб и отозвалась, обращаясь к отцу:
— Да, Бен?
— Ну почему мне нельзя?! — спросила я. — Там будет и мама Бетти, и мама Руфи. Почему ты им не позвонишь?..
— Да не так! — прогремело из окна гостиной. Моя мама только вздохнула и весело улыбнулась.
— Да, Бен, — ответила она равнодушно, — я слушаю. Отец снова принялся давать ей наставления.
— Мама, — в отчаянии сказала я, — почему ты не можешь…
— Твой отец этого не одобрит, — сказала она и снова улыбнулась милой улыбкой, и снова что-то ответила отцу.
Я побрела к сиреневому кусту, где наша гостья в своем неописуемом черном платье складывала сухие ветки в кучу. Она последний раз затянулась сигаретой, держа ее двумя пальцами, затем втоптала ее в землю, двумя руками подняла огромную охапку мусора и перебросила ее через забор.
— Папа говорит, в августе нельзя подстригать деревья, — пробурчала я.
— Да? — сказала она.
— Им от этого больно.
— Вот как. — На ней были садовые рукавицы, которые явно были малы. Она снова взяла секатор и начала. срезать стволы дюймовой толщины и сухие ветки. Это делалось быстро и умело.
Я не говорила больше ничего, только следила за ее лицом.
— Но мама Руфи и мама Бетти… — начала я.
— Я никуда не выхожу.
— Вам не надо будет там оставаться, — сказала я, чуть не плача.
— Никогда. Никогда и ни за чем, — сказала она, отсекла особенно толстую, серебристую ветвь и отдала ее мне. Она стояла, глядя на меня: и ее взгляд, и весь ее облик внезапно стали очень суровыми и неприятными.
Я поняла, что никуда не пойду. Мне казалось, чти ей довелось видеть бои Великой Войны, может быть, даже сражаться самой. Я спросила:
— А вы были на Великой Войне?
— На какой великой войне? — спросила наша гостья. — Нет, я никуда не выхожу.
И она снова принялась подрезать деревья.
Вечером того дня, когда должны были состояться танцы, мама велела мне одеться, и я оделась. У меня на двери висело зеркало, но окно было удобнее, оно все смягчало: в нем я словно висела в черном пространстве, а мои глаза светились из глубоких мягких теней. На мне было платье из розового органди и букетик маргариток, не диких, а садовых. Спустившись, я увидела, что наша гостья ждет меня внизу: высокая, с обнаженными руками, почти красивая, потому что она сделала что-то со своими невозможными волосами, и ржаво-черные пряди были завиты, как на самых лучших фотографиях. Я поняла, что она красива на самом деле, вся черно-серебряная в платье парижского или лучшего нью-йоркского стиля, с серебряной лентой на лбу, как у индийской принцессы, в серебряных туфлях на каблуках с одним ремешком на подъеме.
Она сказала:
— Ах! Ну разве ты не прелесть!
Затем, взяв меня за руку и глядя на меня сверху вниз со странной мягкостью, добавила:
— Я ведь буду плохой дуэньей. Я собираюсь исчезнуть.
— Ну, — сказала я, внутренне содрогаясь от своей смелости, — надеюсь, что смогу сама о себе позаботиться.
Я надеялась, что она не оставит меня одну и что никто не будет над ней смеяться. Ведь она и вправду была невероятно высокой.
— Твой папа ляжет в десять, — сказала мама. — Возвращайся к одиннадцати. Желаю счастья. — И она поцеловала меня.
Но отец Руфи, который отвез Руфь, меня, ее маму и нашу гостью в Кантри-Клаб, не смеялся. И никто другой тоже. Наша гостья казалась необыкновенно грациозной в своем платье, излучала какую-то странную доброту; Руфь, которая никогда ее не видела, а только слышала сплетни о ней, воскликнула:
— Твоя подруга просто прелесть!
Отец Руфи, он преподавал математику в школе, сказал, прокашлявшись:
— Должно быть, скучно сидеть все время дома.
Она ответила:
— О да. Конечно, да.
И опустила довольно длинную, тонкую, элегантную кисть руки на его плечо, а их слова эхом взлетели в ночи и затерялись в деревьях, черной массой обступивших фонарики на аллее.
— Руфь хочет стать циркачкой! — смеясь, воскликнула ее мать.
— Не хочу! — возразила Руфь.
— Да ты и не сможешь, — сказал отец.
— Я сделаю то, что мне захочется, — сказала Руфь, задрав нос, вынула из сумки шоколадку и сунула ее в рот.
— Нет! — рассерженно сказал отец.