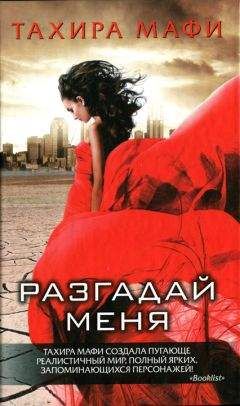Сосредоточиваюсь на прозрачном квадрате, вбитом между мной и свободой. Я хочу размозжить этот бетонный мир, чтобы и памяти о нем не осталось. Я хочу быть больше, лучше, сильнее.
Я хочу быть злой, злой, злой.
Я хочу стать птицей, которая улетит отсюда.
— Что ты пишешь? — спрашивает сокамерник. — Почему не отвечаешь? — Он слишком близко, слишком близко, слишком близко.
Собственную словесную блевотину.
Жалкая ручка служит мне пищеводом.
А мятый листок унитазом.
Никто никогда не подходил ко мне так близко.
Сквозь зубы всасываю воздух и жду, пока он отойдет, как все остальные в моей жизни. Не отрываю глаза от окна, от обещания еще возможного чуда. От обещания чего-то большего, лучшего, оправдания безумия, зреющего во мне, объяснения моей неспособности сделать хоть что-нибудь, не разрушив, не испортив. Сегодня я увижу птицу. Она будет белой, с золотой макушкой вроде короны. Она пролетит мимо окна. Сегодня я увижу птицу. Она…
— Эй…
— Не касайся меня, — шепчу я. Лгу, скрывая от него, что жажду прикосновений. Пожалуйста, трогай меня, хочется мне сказать.
Но когда ко мне прикасаются люди, происходит… всякое. Странное. Скверное.
Смертельное.
Я не помню тепла объятий. Руки болят от неизбежного льда изоляции. Собственная мать не могла держать меня на руках. Отец не мог согреть мои ледяные руки. Я жила в мире пустоты.
Привет.
Мир.
Ты меня забудешь.
Тук-тук.
Сокамерник вскакивает на ноги.
Время принимать душ.
Дверь открывается в черную бездну.
Там нет ни цвета, ни света, ни обещаний, там только ужас, с той стороны. Никаких слов, никаких указаний, только открытая дверь, которая всякий раз означает одно и то же.
У сокамерника снова вопросы.
— Что за черт? — Он переводит взгляд с меня на иллюзию побега. — Нас выпускают?
Они нас никогда не выпустят.
— Пора принимать душ.
— Душ? — Оживление пропадает, но голос по-прежнему звенит от любопытства.
— У нас мало времени, — говорю я. — Надо торопиться.
— Подожди, куда? — Он тянется к моей руке, но я отодвигаюсь. — Света же нет, куда идти, не видно…
— Быстрее. — Я внимательно смотрю на пол. — Держись за подол моей рубашки.
— Да о чем идет речь?
Вдалеке раздался сигнал тревоги. Сирена все ближе, звук нарастает, и вот камера уже содрогается от предупреждающего воя. Дверь медленно поехала обратно. Я схватила сокамерника за футболку и решительно повела в темноту.
— Ничего. Не. Говори.
— Но…
— Ничего! — шикаю я, таща его за край футболки и нащупывая дорогу в лабиринте коридоров. Психиатрическая лечебница. Центр для неблагополучных подростков, для заброшенных детей из распавшихся семей, надежный приют для психически дефективных. Это тюрьма. Нас почти не кормят, мы не видим друг друга, разве что в редких лучах света, украдкой пробирающихся через трещины в стеклянных квадратах, которые они называют окнами. Ночи наполнены криками и заглушенным плачем, воплями и стонами, звуками рвущейся плоти и ломающихся костей по воле сил и по выбору, неведомому мне. Три первых месяца я провела в собственном смраде — никто не сказал, где находятся душевые. Никто не говорил, как там включать воду. С нами не говорят, только сообщают плохие новости. Никто никогда к нам не прикасается. Юноши и девушки никогда не видят друг друга.
Вчерашний день стал исключением.
Это не может быть случайностью.
Глаза понемногу привыкают к вечной искусственной ночи. Пальцы касаются неровных стен. Сокамерник молчит. Я почти горжусь им. На фут выше меня, твердое от сильных мышц тело, сила обычного человека примерно моего возраста. Мир еще не сломал его. Сколько свободы в неведении…
— А что…
Я сильно дергаю его за футболку, чтобы молчал. Мы еще не прошли коридоры. У меня странное ощущение, что я защищаю его — парня, который может раздавить меня двумя пальцами. Он не понимает, каким уязвимым делает его неопытность. Не понимает, что его могут убить без всякого повода.
Я решила не бояться. Я считаю его поведение скорее мальчишеством, чем настоящей угрозой. Он кажется таким знакомым, таким знакомым, таким знакомым… Когда-то я знала мальчика с синими глазами, и воспоминания не позволяют мне возненавидеть сокамерника.
Мне хотелось бы завести друга.
Еще шесть футов, и стена из шероховатой становится гладкой. Поворачиваем направо. Два фута пустого пространства, и мы у деревянной занозистой двери со сломанной ручкой. Выждать три удара сердца, чтобы убедиться — мы одни. Один шаг вперед — и мягко тронуть дверь. Один негромкий скрип, и щель расширяется. Внутри ничего не видно, но я представляю, как выглядит душевая.
— Сюда, — шепотом говорю я.
Я тяну его к душевым кабинкам и шарю по полу в поисках обмылков, застрявших в стоке. Нахожу два кусочка, один вдвое больше другого.
— Протяни руку, — говорю я в темноту. — Он скользкий, не урони. Мыла мало, нам сегодня повезло.
Несколько секунд нет ответа. Начинаю волноваться:
— Ты тут?
Неужели ловушка? Может, таков их план — его послали убить меня в этой каморке в кромешной темноте? Я до сих пор не знаю, что со мной хотят сделать в психлечебнице. Может, решили, что с меня достаточно изоляции, но ведь могут и убить. Так целесообразнее.
Не сказала бы, что я этого заслуживаю.
Я здесь за то, что совершила ненамеренно, и никому, похоже, нет дела, что это был несчастный случай.
Мои родители ни разу не попытались мне помочь.
Я не слышу шума воды, и сердце останавливается. Эта душевая редко бывает полной, но, как правило, один-двое моются. Я пришла к выводу, что обитатели лечебницы действительно психически больны и либо не в состоянии найти дорогу в душевую, либо не обращают внимания на такие мелочи.
С усилием сглатываю комок в горле.
— Как тебя зовут? — Его голос раскалывает воздух и мой поток сознания. Я чувствую его дыхание гораздо ближе, чем прежде. Сердце бьется быстрее; не понимаю, почему я не могу справиться с собой. — Это что, тайна?
— Ты ладонь подставил? — спрашиваю я пересохшим ртом. Выходит грубо и хрипло.
Он подается на несколько дюймов вперед. Я боюсь дышать. Его пальцы тронули жесткую ткань единственной одежды, которая у меня есть, и я с облегчением выдыхаю. Пока он не дотронется до моей кожи… Пока он не дотронется до моей кожи… Пока он не дотронется до моей кожи, мой секрет остается при мне.