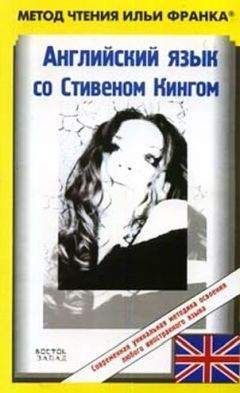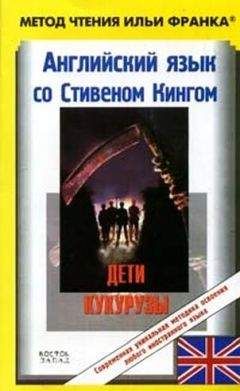Михаил сделал драматическую паузу, во время которой ловко налил водку из графина Петру, Маргарите и себе. Анна отказалась. Она с сомнением переводила взгляд с наливающегося красным лица деверя на детей, что жадно слушали дядю.
Да и сам Петр чувствовал, как внутри него начинает разгораться тревога. «Мне нужны эти документы, – думал он, искоса поглядывая на довольное лицо Марго. – Если понадобится, я убью ее. Ей-богу, не задумываясь пристрелю… Но что же делать с братом? Знает ли он обо мне?»
– В начале ноября под Екатеринодаром, – продолжил Михаил, – началось наше горе-наступление на белых. Ночью я… мы с Кручининым повели солдат через лесок, чтобы по флангу обойти дроздовцев. Но, видать, не наш это был день. Как из леса в поле выбираться стали и в цепь стягиваться, накрыли нас, проклятые, всем, что взрываться и греметь могло. Мигом половину моей цепи выбило. Делать нечего, отдал команду отступать. Решили в лесу укрыться, пока главные наши силы не подберутся к господам офицерам поближе.
И вот лежим с отделением в каком-то буераке. Рядом снаряды рвутся, деревья, словно бритвой, шрапнель режет. А с неба мерзкий такой дождик капает – склизкий и холодный. Ни звезд, ни луны. Лежим с Кручининым рядышком, будто двое мальчишек беспризорных из Диккенсовых повестей, и смотрим, как снаряды все ближе ложатся. Понимаем, что бежать надо. Надо… но нельзя. В темноте потеряемся. Запросто на вражеские позиции можем выскочить. Амба, одним словом… Решили утра дождаться. Земля от разрывов трясется. Страшно. А рядом Кручинин хихикает и что-то под нос себе бубнит, каналья. Ему-то что – укололся, и страха нет.
Стреляли недолго – беляки снаряды берегли. Но укладывали кучно, собаки, потому что уже наутро обнаружили мы с товарищем бывшим поручиком, что от отделения нашего не более двадцатки осталось. Повсюду руки да ноги оторванные лежат, кишки с тряпьем с веток свисают. Зато нам с Кручининым – хоть бы хны. Ни одной царапины. Повели остатки цепи на выход из леса. Как к позициям своим стали подходить, так и обнаружилось, что наш штаб в станице белыми занят. Попали мы в засаду и без единого выстрела в плену оказались. Как-то глупо получилось…
В тот же вечер повели нас белые расстреливать. Поставили рядочком возле ямы. Холодно, сыро, грязь под ногами хлюпает. Кручинин хладнокровный был, каналья. Закурил папироску и на меня смотрит. Говорит сквозь зубы: «Ну что, Мишаня, пришла наша пора помирать». Я у него папироску изо рта забрал, затянулся и отвечаю – мол, верно все говоришь, Паша, отбегались мы с тобой. А он помолчал-помолчал, а затем говорит: «А ты знаешь, Миша, что я с тобой еще говорить буду? После того как в расход нас беляки пустят. И кое-что важное тебе скажу». Посмеялся я над его словами. Подумал, может, успел он морфием кольнуться, пока нас в плену держали. А Кручинин все посмеивается и на меня лукаво так смотрит.
Вышел тогда вперед пузатый белый полковник и с прочувствованной такой речью к нам, пленным, обратился. Так и так, говорит, даже в годину гражданского междоусобия помним мы, офицеры-добровольцы, о христианском милосердии. Каждого, кто шаг вперед сделает, пощадим и отправим в штрафную роту, дабы могли вы за правое Белое дело свои грехи перед отчизной искупить… И тому подобную ерунду про «родину», «долг» и «служение» болтал. И, не поверите, десяток моих красноармейцев, не задумываясь, шаг вперед сделали. А мы с Кручининым на месте стоять остались. По нам и так было видно, кто мы такие, так что хоть два шага сделай, хоть три – не пощадят. Белые слишком чувствительны, чтобы бывших своих боевых товарищей, что к красным подались, в живых оставлять.
Петр достал папиросу и закурил. Пальцы его дрожали. «Забавно, – подумал он, – значит, это они тогда там стояли? Или не они? В десяти верстах от нас полковник Туркул со своим батальоном тоже красных в оборот взяли. В конце концов, мало ли кто кого тогда в тех местах расстреливал… Господи, о чем я думаю! Надо все это заканчивать…»
Михаил вновь разлил водку и, не дожидаясь тоста, жадно опрокинул рюмку. Петр уже догадывался, чем закончится история брата, а потому сказал жене:
– Аня, я думаю, что детям пора спать.
– Ну, папа, – протестующе захныкали Андрей и Настя. – Мы хотим еще посидеть.
– Спать, – скомандовала Анна.
Дети повиновались и, попрощавшись со всеми, отправились на второй этаж. Анна последовала за ними, чему Петр был несказанно рад. Весь вечер Маргарита не сводила с него глаз, и было во взгляде ее столько всякого, что укрыться от внимания жены никак не могло.
– Давай, Мишенька, пугай нас дальше, – протянула Марго, положив узкий подбородок на сведенные ладони. – Мне кажется, что твоя история приближается к развязке.
– Ты права, милая, – обронил Михаил, зачем-то подмигнув Петру. – Осталось совсем немного… Итак, произнес каналья-полковник свою сентиментальную бредятину и приказал солдатам винтовки на изготовку взять. И вот стою я, гляжу в дула, что на нас направлены, и понимаю вдруг, что ничего не чувствую. Единственное, жалею, что выпить напоследок не дали. Пустили по нам залп. Бабах! Мне в плечо и в бок прилетело. Ну все, думаю, вот и жизнь закончилось. В глазах потемнело и, чувствую, лечу куда-то вниз. Прилетел – и дух вон! Однако же не до конца, как вы видите по моей сияющей физиономии.
Очнулся среди мертвых. Дышать не могу, двигаться не могу. Кругом трупы – сверху давят, снизу подпирают. Воняет страшно. И вот тогда-то я впервые испугался. Что ж вы, думаю, ироды, даже расстрелять по-человечески не можете. В гноище уйду теперь, в общей могиле, со своими собственными бойцами.
Михаил замолк на несколько секунд. Потом весело рассмеялся. В глазах его блеснул лукавый огонек.
– Приготовился я от безнадеги волком выть, как вдруг что-то теплое да соленое в рот капнуло. Присматриваюсь – а это приятель мой Кручинин. Лежит прямо на мне, и лицо его над моим нависает. Вижу, что щеку его пуля пробила. А из дыры по капельке частенько кровушка капает. Меня такая зависть взяла, что захотелось в него зубами впиться. И я тогда шепотом ему на ухо и говорю: «Что ж ты, подлец Кручинин, раньше меня помер. Лежишь себе, отдыхаешь, а я даже руки высвободить не могу, чтобы себя порешить. А ведь ты мне, душонка морфинистская, обещал что-то важное рассказать». А Кручинин тогда взял и глаза открыл. Молчит и на меня смотрит. Клянусь я тебе, Петя, всей распроклятой своей жизнью, такого взгляда я отродясь не видел. Испугался я и обрадовался одновременно, что живой приятель мой. Говорю ему радостно: «Теперь вместе помрем. Не так мне скучно будет». А Кручинин в ответ молчит, на меня смотрит и улыбается. Что ж ты, сукин сын, говорю, улыбаешься? Что же ты смешного в нашем нелепом положении нашел? И вот тогда Кручинин заговорил…