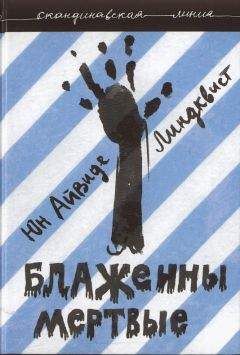— А откуда ты знаешь, что они там не будут искать?
— Я не знаю, — ответил Малер. — Просто надеюсь, что не настолько оно им надо... Да и вообще на природе поприятнее будет...
Он включил радио. По государственной станции крутили рекламу, как ни в чем не бывало. Малер нашел последние известия, но и из них не удалось узнать ничего нового. Восемь человек по-прежнему значились в числе пропавших.
— Что-то сейчас остальные семь поделывают?.. — пробормотал Малер и выключил радио.
— Да то же самое, наверное, — ответила Анна. — Слушай, я вот чего никак понять не могу: почему ты считаешь, что все кругом ошибаются и только ты один прав?
Малер на секунду оторвал взгляд от дороги и обернулся, чтобы посмотреть ей в лицо. Ни тени издевки, — похоже, вопрос был задан без задней мысли.
— Я не знаю, прав я или нет, — ответил он, — только ведь и они не знают. Я за свою карьеру такого повидал... да у тебя бы волосы дыбом встали, если бы я тебе рассказал, сколько решений принимается безо всяких на то оснований и без малейшего представления о возможных последствиях!.. Лишь бы видимость создать... — Теперь, когда пути назад не было, он осторожно спросил: — А что, ты считаешь, мы неправильно поступаем?
Анна помолчала. В зеркальце заднего вида Малер увидел, как при взгляде на Элиаса лицо ее исказила болезненная гримаса.
— Не откроешь окно еще чуть-чуть?
Малер опустил стекла. Анна откинулась на сиденье, запрокинув голову назад, и произнесла:
— Господи, ну почему же от него так воняет?!..
Малер снова обернулся. Темно-зеленое лицо Элиаса, покрытое черными пятнами, выглядывало из пододеяльника, лишь усиливая его сходство с мумией.
— Не хочу его никому отдавать, — проговорила Анна, — вот и все.
Сад возле дома выглядел запущенным, трава выгорела. Гигантский вьюнок, еще в начале лета оплетавший перила крыльца, засох, и теперь дом смахивал на перевязанную бечевкой бандероль.
Малер остановил машину метрах в десяти от входной двери и выключил двигатель.
— Ну что ж, — произнес он и окинул взглядом порыжевшую траву. — Вот и приехали.
Домик был расположен на самой окраине поселка Кохольма. До моря было метров двести через лес, но Малер еще в машине ощутил свежесть морского воздуха. Он вдохнул его полной грудью. Вот она, свобода.
Теперь он понял, почему его сюда так тянуло. Дело было, конечно, в море — в этой бескрайней голубой дали там, за перелеском, — даже если вдруг за ними придут, им есть куда бежать. На острова.
Здесь был лишь один недостаток, не преминувший о себе напомнить, — впрочем, только благодаря ему Малер и смог себе позволить этот дом пятнадцать лет назад. По лесу пронесся низкий гул, и корпус машины откликнулся легким дребезжанием. Малер вздохнул.
Чуть южнее, где-то в полукилометре отсюда, был расположен водный терминал. Лет пятнадцать-двадцать назад, когда морские круизы в Финляндию и на остров Оланд вошли в моду, габариты паромов, к превеликой радости отдыхающих, стали стремительно расти, а цены на жилье — столь же стремительно падать, пока не сократились вдвое. Это было, конечно, не то же, что жить рядом с летным полем, однако и ненамного лучше. Паромы ходили круглые сутки, и в каждый приезд к шуму приходилось привыкать неделю-другую.
Они принялись выгружать вещи.
Малер вытащил Элиаса с заднего сиденья и понес его к дому. Выудив ключи из водосточной трубы, он открыл дверь. Пахнуло затхлостью. Малер отнес Элиаса в детскую, где на полках и подоконнике красовались сокровища прошлого лета — перья, камушки и щепки.
Малер уложил Элиаса на кровать и открыл окно. Соленый воздух ворвался в комнату, взметнув столбики пыли.
Как же правильно они сделали, что приехали сюда! И места, и времени здесь было предостаточно. А больше им ничего и не нужно.
После ночного разговора с Флорой Эльви никак не могла уснуть. Она немного почитала Гримберга — она как раз дошла до смерти Густава II Адольфа. Дочитав до, прямо сказать, необычайной тяги вдовствующей королевы Марии-Элеоноры Бранденбургской к телу покойного супруга, Эльви уже не могла оторваться.
Мария-Элеонора никак не хотела смириться со смертью мужа. На протяжении всего пути из Германии она день и ночь проводила у его гроба, а будучи насильно отлученной от тела приближенными, она каким-то образом раздобыла его сердце (каким именно — об этом, к немалой досаде Эльви, книга умалчивала) и, потрясая им в воздухе, добилась-таки доступа к телу покойного супруга.
«Не сводя очей лицезрит останки его, чтит их и лелеет, будто и не видит черноты и тлена, исказивших родные черты» — так описал это шведский дипломат, сопровождавший траурный кортеж.
Эльви опустила книгу и задумалась. Вот что значит разница восприятия. Если бы шведский король вдруг восстал из мертвых, королева, наверное, с радостью приняла бы его полуразложившийся труп в свои объятья. Почему же она-то не рада? Может, у нее черствое сердце?
Дальнейшее повествование пролило некоторый свет на поведение королевы. Мария-Элеонора приказала изготовить двойной гроб, где было достаточно места как для его величества, так и для нее самой. Объяснила она это тем, что «столь кратко было время услады», отведенное монаршей чете, что она желала последовать за возлюбленным супругом в могилу.
Как раз этих чувств Эльви не разделяла. За долгую жизнь она успела сполна «насладиться» супругом.
У них с Туре была значительная разница в возрасте. Он был на десять лет старше и, можно сказать, взял ее замуж из жалости - в то время за ней окончательно укрепилась слава истерички. Не то чтобы он о ней не заботился, но понимать он ее никогда не понимал, и под конец жизни эти отношения успели ей порядком надоесть. Обиды Эльви на него не держала, но чувствовала, что замужеством сыта по горло.
Эльви отложила книгу и опять попыталась заснуть, но сон не шел. В половине пятого ей пришлось встать и провести полчаса на унитазе, а когда она снова улеглась, в спальне было уже светло. Она опустила жалюзи, приняла пару таблеток валерьянки и постепенно задремала. Она долго еще то просыпалась, то засыпала, пока наконец не проснулась окончательно в начале двенадцатого, исполненная бодрости и радостных ожиданий.
А потом она посмотрела новости.
Ни слова о главном. Время от времени на экране мелькало лицо какого-нибудь священника или епископа, и о чем же они говорили? О взволнованных родственниках оживших, о телефонах доверия, о смятении, которое испытывает человек в подобных ситуациях и прочей ерунде.