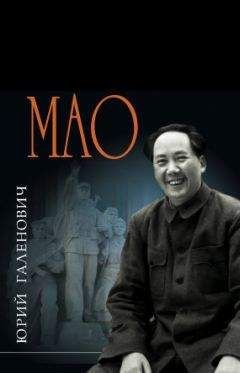7
У Марианны Леви узкие руки, тонкие брови, темные глаза. У нее фиолетовые волосы. Марианна Леви знает себе цену: она родилась и выросла в предместье, потеряла родителей, работала служанкой и прачкой, попала в бордель, и там началось ее возвышение. Ее расположения добивались. И она поднималась все выше и выше, пока не стала второй дамой королевства. Первая дама — сама королева. Из-за Марианны Леви дрались на дуэлях студенты и офицеры, поэты и министры, из-за нее стрелялись, бросали жен и детей. Но не было среди них ни одного, кто мог бы похвастаться взаимностью. Единственный человек, которого она почти полюбила
— казнен. Или умер на чужбине. Или заточен в подземелье. Марианна Леви — жестокий ребенок, узнавший правила взрослой игры.
На приеме у принца Хоффман прочел несколько новых стихов. Стихи были хорошими, но отнюдь не гениальными. Впрочем, это позволило Хоффману не сосредоточивать внимание общества и его высочества на своей персоне. Это позволило Марианне Леви быть милостивой с ним.
— Лаупгейма, конечно, можно не слушать, но у него огромный опыт и безошибочное чутье. Конечно, он уже стар и выпивает безо всякой меры…
— С Лаупгеймом можно поспорить: то, что он принял за стиль Монбризона на самом деле является стилем эпохи. Стиль молодых поэтов отличается от стиля стариков. Возможно, Лаупгейм просто отстал от жизни.
— Конечно, это не лишено смысла. Но ведь речь, насколько я понимаю, идет об индивидуальных особенностях письма.
— Вы хотите сказать, что Лаупгейм прав?.. Но это означало бы, что я пользуюсь никому не известными стихами Монбризона. Простите, но для меня это звучит слишком оскорбительно. Разсе мои стихи не публиковались раньше?
— Я не хотела вас обидеть, — Марианна касается рукой руки Хоффмана. — Я просто хотела бы разобраться во всем. Самостоятельно.
Хоффман вздрагивает от прикосновения.
— Следовательно, вы все-таки подозреваете меня в том, что я…
— Нет, — Марианна Леви едва заметно улыбается своими выразительными губами. — Возможно, вы сами себя подозреваете… Скажите, вы действительно не были знакомы с Монбризоном?
— Конечно, мы были знакомы. Но это еще не повод обвинять меня в… в подражательстве.
— Тем не менее, Лаупгейм обвиняет. И делает это вовсеуслышание, везде, где появляется, везде, где находится хотя бы один человек, готовый его слушать.
Принц выражает неудовольствие. Ему не нравится интимный характер их беседы. Ему не нравятся также некоторые вольности в поведении этого выскочик, баловня судьбы. Марианна Леви оставляет Хоффмана на попечение графа Хеллерупа и Лефевра.
— Быть кумиром не так-то просто, дружище, — говорит Лефевр. — Сегодня от вас ожидали большего.
— Я работаю над одой, — отрывисто отвечает Хоффман. — Она дается мне нелегко.
— Желаю удачи. Помните, что угодить королю еще труднее, чем принцу. Все ждут от вас нового шедевра.
Хоффман кланяется, ощущая, как в груди поднимается глухая ненависть. Теперь он куда лучше понимает Монбризона, враждовавшего с высшим светом. Марианна Леви улыбается ему издалека — одними глазами.
Хоффман вошел к Монбризону, когда тот, лежа на кровати, в сотый или тысячный раз рассматривал потолок.
— Я хочу поговорить с вами.
— О чем?
— О Марианне Леви.
Монбризон вскочил:
— Какая сейчас погода?
— Что? Погода?.. Ах, да… Дождь.
— Самое подходящее время. Вечер — и дождь. Если бы я был свободен, я знал бы, что нужно делать.
Он помолчал, привычно шагая по комнате.
— Вы были на приеме?
— Пока — только у принца.
— И встретились там с Марианной?
— Да.
— Так. Значит, вы — ее сто первая жертва.
— Ничего подобного. Она, конечно, производит впечатление, но…
Монбризон остановился, взглянул на Хоффмана боком, склонив голову.
— Вам остается лишь тихо страдать… Вам понадобятся новые стихи. Боюсь, что их вы будете писать самостоятельно.
Монбризон постоял, ожидая ответа. Хоффман молчал.
— Может быть, — наконец проскрипел он. — Может быть, и стихи… Послушайте, я помог бы вам бежать уже в ближайшую ночь, но теперь, когда Марианна Леви…
— Да?
— Теперь я думаю, что вы, Монбризон, оказавшись на свободе, первым делом начнете разыскивать ее. И это станет началом конца. Не только вашего, но и моего.
Монбризон покачал головой.
— Я чувствовал, что для меня все кончено. Я почувствовал это еще тогда, когда впервые пошел сюда — вернее, меня ввели, поскольку на глазах была повязка. А теперь — теперь я уверен в этом.
Хоффман подошел к письменному столу, рассеянно гланул на исписанные листы. Потом тихо спросил:
— Вы любили ее?
— Точнее, ненавидел.
— Кажется, я понимаю, почему она говорила со мной так, будто ей известно гораздо больше… Вы когда-нибудь говорили с ней обо мне?
— Нет.
— И все же она подозревает меня. И вдобавок этот Лаупгейм…
— Лаупгейм? Литературный критик?
— Да. Он распускает слухи, будто я выдаю чужие стихи за свои. Ваши стихи, Монбризон.
Монбризон натянуто рассмеялся и повторил:
— Это конец.
Хоффман взял со стола несколько переписанных набело листов. И, уже уходя, сказал:
— Да, но чей конец? Неизвестно.
— Вы спятили, Хоффман! — крикнул Монбризон ему в спину. — Уж лучше выдайте меня королю!..
Хоффман опустил голову и молча закрыл за собой дверь.
Хоффман стоял в кабинете, лицом к окну, глядя, как дождь волнами набегает на стекла.
Неслышно вошел Хропп и остановился в ожидании.
— Как твои успехи с этим новым слугой, Квоке? — спросил Хоффман, не оборачиваясь.
— Успехов нет, — ответил Хропп. — Может быть, он почуял опасность. Затаился.
— Значит, его поведение безупречно?
Хропп выдавил из себя звук, отдаленно напоминающий мычание, что следовало понимать как знак согласия.
— Тем лучше… По всей видимости, в ближайшее время его поведение не изменится, и ты можешь заняться другим делом.
Хропп настороженно вытянул шею.
— Тебе ни о чем не говорит фамилия Лаупгейм?
— Нет, хозяин.
— Это литературный критик, в прошлом очень известный человек, сейчас он спился и живет подачками. Он уже стар. Так стар, что может умереть в любую минуту. Нужно ему помочь…
У Хроппа глаза полезли из орбит и отвисла челюсть.
— Это так серьезно, хозяин? — наконец прохрипел он.
— Он живет совершенно один, в какой-то конуре. А ты, насколько я знаю, способен много выпить и не быть пьяным…