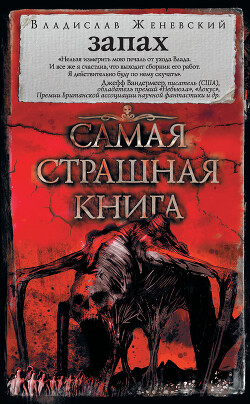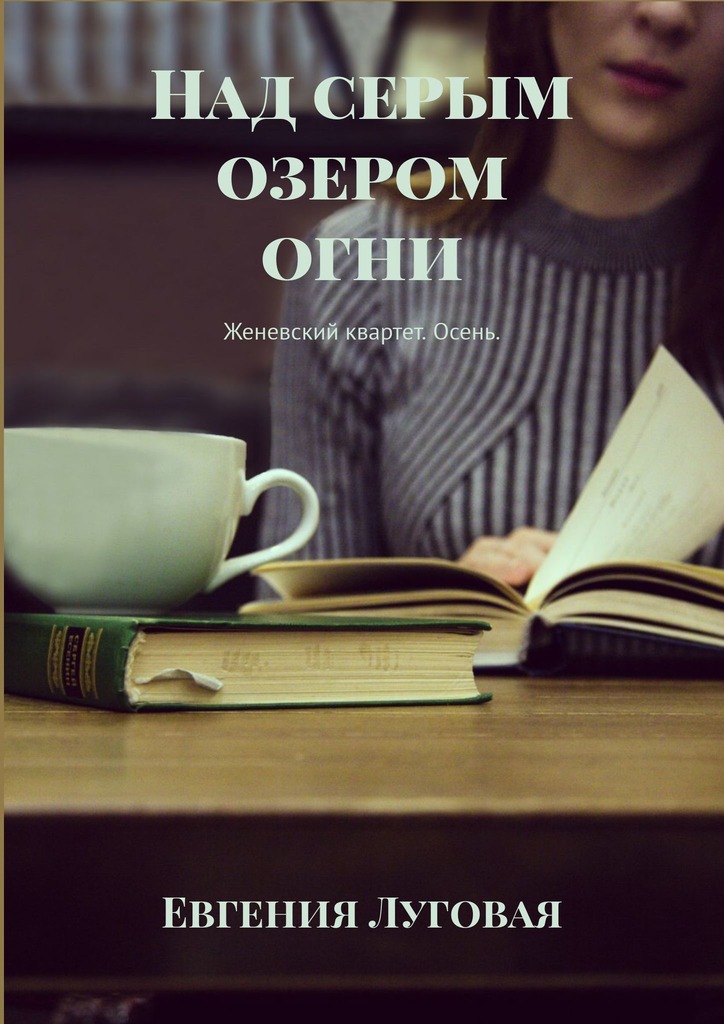И Рише думал – распластавшись на голых досках, тяжело дыша, прислушиваясь к шипению и бульканью пленительного существа за загородкой. Он думал о матери и ее бесконечной болтовне. О скудоумном префекте, к которому каждый день ходил на поклон. О том, как глупо попался. О серых парижских мостовых, о рабочих кварталах, о грязи. О своих долгах. О Маргарите, которая позабудет его еще до весны. О той, чей утраченный образ искал в Маргарите и ей подобных, но не найдет никогда. Инспектор думал, думал, думал – а потом игла запаха прошила его мозг насквозь, и мыслей не стало.
Когда позади скрипнула дверь, он расстегивал пуговицы на рубашке.
Март 2013
Ключик
Когда к базе подкрадывается рассвет, я сижу у окна. Больше делать нечего. В камине уютно полыхает. Запасы топлива – в основном разделанная мебель – вповалку сложены слева. Очень хочется чаю. Меня устроил бы даже презренный пакетик с опилками и землей, но заварки нет. Я обшарил всю комнату и ничего не нашел, кроме охапки кленовых листьев в тумбе под телевизором. Какая-нибудь городская шмакодявка оббегала пол-леса, прожужжала родителям все уши своим гербарием, а потом засела за какую-то игрушку в смартфоне и к утру благополучно про все забыла. Ах, эти дети.
Смешно, но я все-таки попробовал их заварить. Мура получилась, конечно, только воду попортил.
От окна все сильней тянет холодом, у меня зябнут пальцы. Оборачиваюсь посмотреть, как там камин, и на секунду цепенею: так ты похожа на тех, других. В отсветах пламени одеяло окрашивается в злой оранжевый. До лица зарево не дотягивается, там все в сиреневых тенях. Хорошо, что закрыла глаза. Ночью жутко было глядеть в них – зрачки светились сами по себе, безотносительно ко всякому огню, внутренним горем. Такое выражение я видел только в советском кино. Вот, скажем, показывают нам обыкновенную русскую бабу – кряжистую, сильную, под родину-мать. Вся в делах: суетится у печки, месит тесто, по лбу усталая прядка. И тут в дверь стучат. Она как есть выходит на крыльцо, руки в муке – очень эффектно. А там соседка – тараторит что-то, тычет пальцем в сторону реки, а туда люди бегут, много людей. И ненадолго все как бы замирает. Крупным планом ее глаза. Точно такие же – бездонные, безумные. Секунду спустя она уже несется со всех ног. Но такой кадр обязательно будет. Когда она посмотрит Богу в слепые бельма и попросит: «Пусть будет жив». Нет, не попросит – прикажет.
Только вот тебе, спящая на диване, спасать было некого. Сколько раз мы обсуждали это? Я приводил аргументы, раскладывал финансы по полочкам, обводил рукой нашу хрущевскую конурку. Ты плакала, злилась, не разговаривала со мной целыми днями. Наверное, надеялась растопить когда-нибудь этот лед. И тебе даже в голову не приходило, что подо льдом может ничего и не быть. Цельный кусок застывшей воды. Не люблю, не хочу. Я был хорошим ребенком, но из таких не всегда вырастают хорошие отцы. Сложись все иначе, ты бы еще благодарила меня. Но сейчас ты молчишь.
Снова отворачиваюсь к окну. Зимний рассвет в горах – это даже немного больно. Сначала темень выцветает в чистейший лиловый, который хочется черпать ложкой, как варенье. Потом из-за восточной гряды разбегаются по небу нежно-персиковые жилки, растут и ширятся, отбрасывая силы ночи далеко на запад. Еще несколько минут – и над дальними елями показывается край солнечного диска. Обычно в это время кричат петухи, но их в пределах слышимости не осталось. Сгинули, как и все прочие – собаки, лошади, кролики, кошки, куры. Как все люди, не считая нас с тобой.
Прямо перед домом, лицом в сугробе, лежит ребенок лет четырех. На нем кислотно-оранжевая зимняя курточка, фиолетовый шарф и шапка с помпоном – все светится в полумраке, словно радиоактивное. Одна варежка, тоже фиолетовая, валяется чуть в стороне. Он вяло шевелит ручками и подвывает. Его забыли и бросили умирать. Вопреки всему меня охватывает желание кинуться к нему, выкопать из снега, принести домой, обогреть и накормить. Но это желание рождается в разуме, я подавляю его без труда. За ним не стоит подсознательное с его грубыми, но такими цепкими инструментами. Поэтому я способен не только чувствовать, но и мыслить. Оценивать трезво и ясно, насколько это возможно для человека, не спавшего всю ночь. Развлечения ради начинаю рассуждать логически.
Снег вокруг малыша девственно-чист. Буран утих еще вчера. Так где же следы, вмятины от ног? Их нет. Только под самим телом виднеются края воронки. Естественно, ведь оттуда он и вылез.
И если бы даже следы замело какой-то случайной метелью, которой я не заметил, – почему он забрался на самый высокий сугроб, почему не пошел по тропинке? Ее тоже два дня никто не убирал, но очертания еще угадываются среди завалов. Сходить с нее не рискнул бы даже я. И дом – вот он, в пяти шагах.
И так далее, и так далее. Слишком громко кричит, слишком долго, слишком хорошо его слышно через двойное стекло. Но это все игры для истощенного ума, способ убить время. Потому что не бывает детей двухметрового роста. Двухметровой длины. Хотя для иных и это не аргумент.
Словно услышав мои мысли, он обрывает плач на визгливой ноте и закапывается обратно в снег. Потерянная варежка втягивается следом, на глазах растекаясь в нечто бесформенное и тусклое. Номер не прошел, старая наживка никого не приманила. Не знаю, способно ли это существо испытывать досаду, злость, страх. Или только голод, примитивный и оттого вечный?
Я бы на его месте чувствовал недоумение, потому что начиналось все безукоризненно. Утром субботы с базы выехали на снегоходах пять человек. Ни один из них не вернулся, включая инструктора Николая, который родился и вырос в этих местах. Мы могли бы оказаться в их числе, но повезло (или нет, как посмотреть) проспать. День тянулся медленно и лениво. Тихий завтрак в главном доме, кроме нас двоих, – пара из Москвы, мать с дочкой-второклассницей и одинокий очкарик. Уже и не помню, как их зовут. Звали. Кажется, я не спрашивал. Разговаривали мало, больше смотрели в окно и строили планы на неделю. Покататься на санях. Сходить на лыжах к подножию Сосновой. Еще на лошадях к озеру, там раскидать снег и поглазеть на знаменитый голубой лед. Сегодня на снегоходах, как дождемся первую партию. А вечером – посиделки у камина, песни, глинтвейн. Хотя мне больше хотелось пить, чем петь. Тебе наоборот.
Потом мы дурачились во дворе с собаками, для которых ты еще в день приезда придумала клички: Кузька, Машка, Нафаня. Им было все равно, лишь бы кто-то их приласкал. Солнце тогда сверкало во всю мощь, совсем как сейчас. Дышалось особенно глубоко – из-за сосен, обступивших дома и постройки, из-за хрустящего мороза, из-за того, какое прозрачное было небо. Поодаль фыркали в стойлах лошади, им тоже не терпелось пробежаться по январским полям. Думая, что я не замечаю, ты временами поглядывала на Катеньку, хохотавшую вместе с матерью возле кроличьих клеток. Я не только замечал, но и понимал, что вечером вместо гитары и вина с корицей нам предстоит очередной бессмысленный и тягостный разговор, а после – долгий сеанс одиночества вдвоем, потому что здесь, на задворках цивилизации, уходить было некуда. Ни мам, ни сердобольных подружек.
Тут нас отыскал Ильдус, по-летнему бронзовый второй инструктор, и предложил выйти на лошадях навстречу второй группе – они, похоже, увлеклись и могли опоздать к обеду, а мы как раз их урезоним, да и сами проветримся. Ты отказалась, сославшись на головную боль, которой у тебя в принципе не бывало, и ушла в дом. Я не стал тебя удерживать – в последнее время мы вообще давали друг другу все больше свободы, сближаясь только для того, чтобы клюнуть с наскоку и разлететься вновь. И единственная тема, в которой ты видела спасение, лишь расширяла пропасть между нами.
Остальные согласились. С посадкой, как водится, не заладилось, но в конце концов все зады обосновались в седлах, а ноги в стременах. Алла с Олегом хохотали без перерыва, как живые призраки нас с тобой двухлетней давности. Лошади приплясывали и пускали из ноздрей облачка душистого пара. Взяли всех, кроме охромевшего Васьки, даже Ромашку с жеребенком.