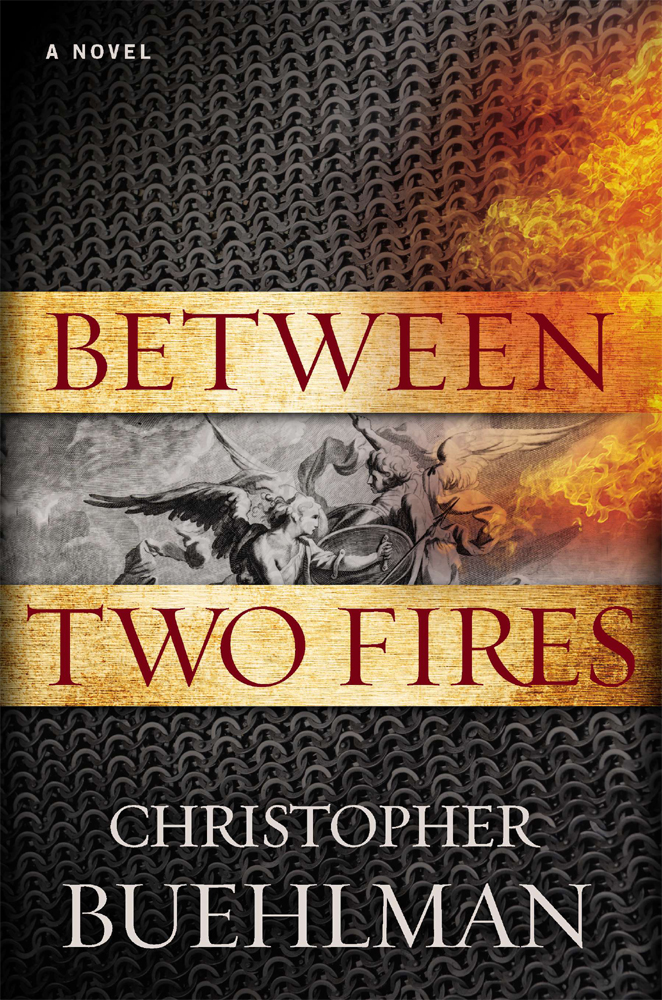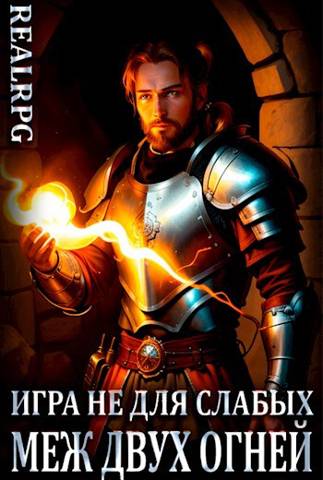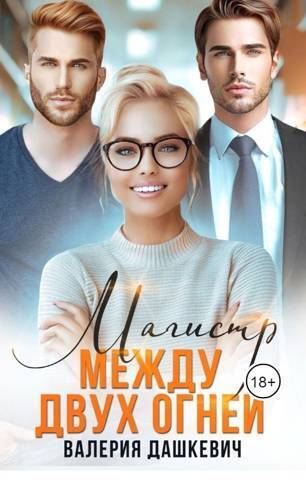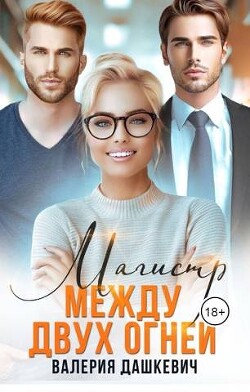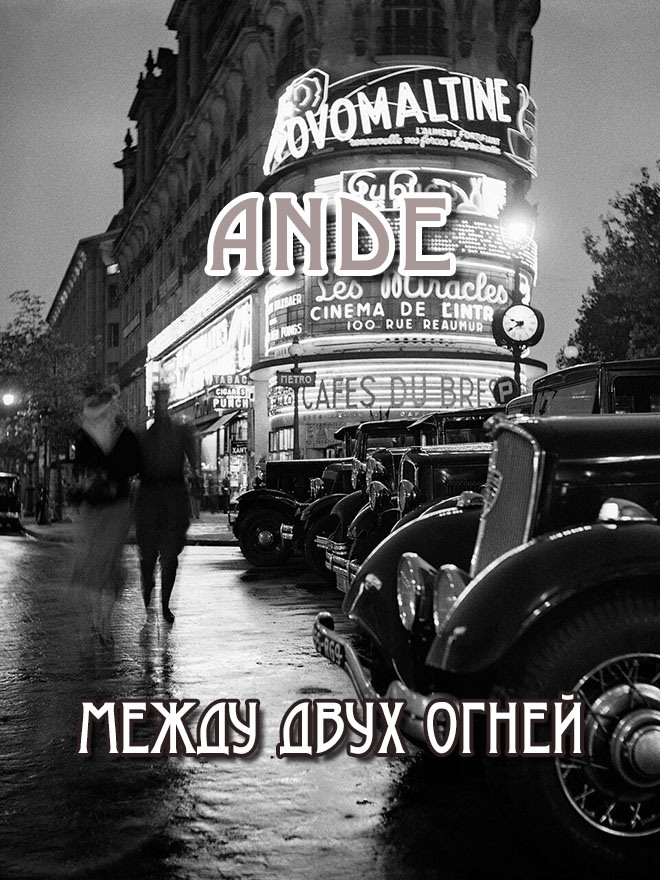отражался эхом от закрытых ставнями витрин лавок и деревянных домов, окаймлявших площадь. Вереница впавших в экстаз мужчин и женщин вошла на площадь Сент-Этьен, медленно двигаясь в чем-то вроде одурманенного марша, хлеща себя в такт барабанному бою кожаными ремешками, снабженными железными крючками или шипами. Они были обнажены до пояса, как и мальчик, и все были одеты в простые юбки, которые когда-то были белыми, но в них много шагали и их обильно поливали кровью, так что они были цвета земли и жесткими, как кожа. Толпа ахнула, увидев Кающихся: обнаженные груди женщин, засохшую старую кровь, сочащуюся новую, белые шапочки, которые они носили с красными крестами спереди и сзади. Некоторые осерцы даже упали на колени, причитая и думая, что настал Судный День, здесь и сейчас, и скоро сам Христос расколет небо и отделит про́клятых от спасенных.
И вот четыре женщины закричали, и четверо мужчин ответили::
Иесу, ты умрешь за нас?
— Да, любовь моя, да, любовь моя!
Ты боишься римского кнута?
— Нет, любовь моя, нет!
И тогда мужчины закричали, и женщины ответили:
Грешники, прольете ли вы кровь за меня?
— Да, любовь моя, да, любовь моя!
Вы боитесь мора?
— Нет, любовь моя, нет!
И все вместе:
Кто придет и пойдет с нами
По Его стопам?
Чтобы показать Ему, что наша любовь истинна
Тридцать дней!
Позади этих восьмерых и барабанщика тренировались еще около двух десятков человек, явно набранных из других городов; все они были раздеты по пояс, хотя и менее однородны по внешнему виду. Некоторые из них хлестали себя ветками деревьев; девочка шла позади, неся на спине вязанку хвороста, чтобы заменить расколовшиеся ветки.
Барабанщик отбил три удара, и все остановились. Они закричали «Иесу!» и бросились ничком на мостовую, раскинув крестообразно руки и вызвав у толпы восторженный вздох. Затем те, что были сзади, встали и вышли вперед, ударяя хлыстом или веткой по каждой распростертой фигуре, мимо которой они проходили, пока не добрались до передних и снова не упали на землю. Таким образом, словно какая-то жуткая гусеница, вся вереница поползла к площади перед собором и изумленной толпе зевак, а затем внезапно рухнула.
Все, кроме человека, бившего в барабан.
И вот он отложил барабан в сторону и посмотрел на толпу.
— Я Рутгер Прекрасный, — представился он, выпрямляясь в полный рост. Прекрасный, возможно, было его имя с юности; казалось, это слово больше подходит для обходительного ловеласа, чем для этого красивого, но шокирующего мужчины лет тридцати или около того, с широкой мускулистой грудью дровосека или фехтовальщика, покрытой шрамами от многомесячных самобичеваний. Его небрежно выбритый (или намеренно обкорнанный) череп вполне подошел бы сумасшедшему, но глубоко посаженные глаза светились умом, даже мудростью. На подбородке у него росла козлиная бородка с проседью. Он казался не столько клириком, сколько противоядием от клерикализма. Если бы Христос был не только плотником, но и немцем, и если бы Он пережил бичевание, и если бы Он остриг себе голову разбитой бутылкой, Он вполне мог бы выглядеть как этот человек.
— Я пришел к тебе, Осер, из земли Саксонии, куда чума еще не пришла и никогда не придет; я стою перед тобой, чтобы предложить тебе либо чашу, либо меч. Чаша — это прощение, а меч — это гнев.
Тут из-за спин толпы вышел мальчик, неся оловянный кубок и маленький меч. Он встал рядом с мужчиной, дважды топнув ногой.
— Бог требует десятину. Если каждый десятый из вас откажется от своей жизни, полной ложного комфорта, и проведет с нами тридцать дней, ваш город будет спасен. Или если трое из вас просидят на кресте три дня, ваш город также будет спасен. Но если вы останетесь здесь и не покажете Господу свою любовь, вы все умрете от камня под мышкой, или от камня в паху, или от кровопролития. Я вижу по вашим лицам, что вы знакомы с этими смертями, ja? Что ж, теперь у вас есть возможность отвернуться от смерти. Мне продолжать говорить о Божьем предложении, или вы ожесточите свои сердца и разойдетесь по домам умирать в грехе?
— Продолжай! — крикнул кто-то.
Другой это повторил.
— Ап! — крикнул Рутгер, и изображающие крест Кающиеся за его спиной встали, раскинув руки и подняв лица к небу.
Некоторые из них рыдали.
Он заговорил.
Эмма с изумлением наблюдала, как мясник и винодел по имени Жюль, который когда-то ухаживал за ее сестрой, привезли двухколесную тележку. Они посадили в нее ее бедного, окоченевшего мужа; они, очевидно, возмущались его разложением, но, казалось, не боялись его болезни. Почему они не окликнули ее? Потому что она сидела в тени, и они подумали, что она тоже мертва, как и почти все на этой стороне Йонны. Или они подумали, что она сбежала.
— Куда вы его увозите? — спросила она, подставив лицо лучам солнца, чтобы они могли ее видеть. Она поморщилась не столько от солнечного света, сколько от страха перед их реакцией на ее цвет, но она их не испугала. Если они и решили, что она желтолицая, то были очень вежливы.
— Собор, — сказал Жюль. — Ты захочешь это увидеть, Эмма.
— Вы его похороните?
— Нет, Эмма. Приходи к Сент-Этьену.
С этими словами они увезли ее Ричарда, его колени все еще были прижаты к груди, и теперь стал виден маленький светловолосый мальчик, который прыгал перед ними через чертополох и пел песенку на немецком.
Солнце уже клонилось к закату, когда к собору Сент-Этьен принесли трех мертвых осерцев. Ричард был в самом худшем состоянии — он умер неделю назад, — но были выбраны и двое других. Красивой молодой девушки, разбивавшей сердца в винной лавке у главных ворот, не стало всего один день назад, хотя ее красота уже была утрачена; на рассвете она была здорова, но к вечеру чума сделала ее буровато-желтой, как баклажан, и убила наповал.
Третьей была Иветт Мишонно, признанная любовница епископа, которая умерла после того, как в течение неслыханных десяти дней отчаянно боролась с ранами и кровотечениями, оставив после себя трех круглолицых темноглазых бастардов епископа Осерского. Ее завернули в саван и похоронили, но мальчик-немец приказал ее забрать. Мать Иветты, тоже боец, устроила потасовку на церковном дворе, чтобы не допустить нарушения с таким трудом достигнутых христианских похорон своей дочери, отобрала лопату у пономаря и разбила ею нос одному Кающемуся Грешнику, после чего соседи повалили ее на землю и утихомирили.
Осер пытался угодить Богу христианскими захоронениями, но, очевидно, требовалось нечто большее.
* * *
Повозка приближалась к Осеру; квадратная башня собора манила их, когда они поднялись на холм неподалеку от Периньи, но до захода солнца оставался всего