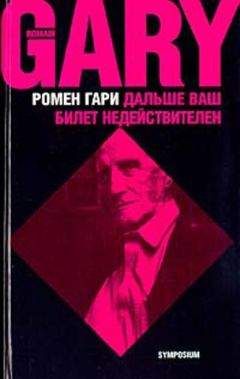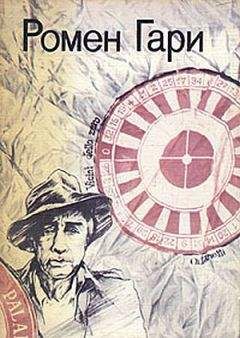Утро не располагает к иллюзиям. Утром вещи приобретают досадную тенденцию к реальности.
Он знал, что сладко спящий прямо на земле Диас – не что иное, как шарлатан; уже давно он предает Альмайо, сообщая и его врагам, и в иностранные посольства все, что может их заинтересовать. Радецки знал, что «таинственный» Барон – паразит и жалкий пьяница; его «отсутствующий» вид, отказ от участия в человеческой жизни, почти метафизическая отчужденность – блеф, очередной номер бродячего артиста, и смысла во всем этом не больше, чем в спрятанной у него в заднем кармане брюк бутылке виски. Существование в трехмерном пространстве – предел человеческих возможностей, да и оно-то дается людям не так уж легко, поэтому они и испытывают такую потребность в музеях, мюзик-холлах, всякого рода искусствах, поэзии – нужно же чем-то себя утешить. Радецки знал, что «загадочная» девушка – обладательница «сверхчеловеческой» красоты – только что уединялась за скалой, чтобы помочиться. А лучше всего он знал, какого мнения следует придерживаться о себе самом – вопреки всем попыткам уйти от самого себя, – о себе, Лейфе Бергстроме, шведском журналисте, изо всех сил отчаянно исполнявшем роль несуществующего циника и авантюриста Отто Радецки, ради того, чтобы снискать доверие lider maximo и написать сенсационный репортаж – рассказ о подлинной человеческой вере.
Он поставил перед собой опасную задачу и преуспел – даже чересчур. В определенной степени он, можно сказать, превзошел всех выступавших в «Эль Сеньоре» артистов. Мог бы спокойненько остаться в посольстве, объяснить им, кто он, спасти свою шкуру – вместо того чтобы хранить верность той роли, которую играл, и оставаться с Альмайо до самого конца. Но он не сделал этого. Ему почти удалось выйти из всеобщей комедии и достичь чего-то вроде собственной подлинности. Ибо в конечном счете нет у человека иной возможности сделать это, кроме как до самого конца исполнять взятую на себя роль, до гробовой доски оставаясь верным той комедии, которую выбрал, и своему месту в ней. Именно таким образом человек и творит Историю – единственное подлинное, посмертное воплощение своей личности. Когда верные своей роли актеры, не изменившие своему амплуа артисты навсегда уходят со сцены, разыгранная ими комедия обретает подлинность. Это касается как Де Голля, так и Наполеона; можно было бы, наверное, привести и более ранние – тысячелетней давности – примеры из истории этого всеобщего цирка.
Единственным человеком, знавшим о нем правду, был шведский консул, много раз предупреждавший его о том, что в случае каких-либо неприятностей он почти ничем не сможет помочь.
Взятую на себя роль он сыграл хорошо отчасти благодаря своей внешности: плоское бесстыжее лицо, тонкие циничные губы, нордические бледно-голубые глаза, щека, рассеченная типично немецким шрамом, – результат никакой не дуэли, а аварии, в которую попал в Упсале еще студентом, гоняя на мотоцикле. Может быть, его определенным образом даже искушала собственная внешность, заставляя идти у нее на поводу. И в конце концов он попал в ловушку, расставленную ему его собственной физиономией. Как и всякий уважающий себя актер, в исполняемой роли он максимально использовал свои внешние данные; это же можно отнести и к Муссолини, и ко многим другим. Они использовали те аксессуары, которыми наградила их природа или простая случайность, а в результате втянулись в игру, уверовали в правдивость того, что было лишь комедией, и, силясь самим себе доказать подлинность того, что было всего лишь ролью, стали причиной миллионов смертей.
Вот так и он создал свой персонаж – Отто Радецки, «солдат удачи», точная копия любимца Гитлера – десантника Скорцени. Ему удалось одурачить Хосе Альмайо. Одной такой физиономии достаточно, чтобы тебя приняли с распростертыми объятиями в любом генштабе Ближнего Востока или Карибского бассейна. Ему удалось одурачить всех. Но может быть, больше всех – себя самого. Как и все самозванцы, он несколько увлекся в своей жажде подлинности; правда, сделал это куда более невинно, чем, к примеру, Геббельс, – тот исключительно из верности изобретенному им персонажу не только себя порешил, но еще отравил шестерых детей и жену. Несомненно, он тоже – и очень скоро – вкусит мгновение наивысшей подлинности, по-настоящему став Отто Радецки – изрешеченным пулями трупом в придорожной пыли.
У них было шестеро солдат – из тех, кого они подобрали на выезде из столицы, и двое телохранителей Альмайо. Находились они сейчас над территорией, контролируемой Рафаэлем Гомесом, войска которого стояли внизу, в долинах. Маловероятно – даже если предположить, что один из гонцов Альмайо смог прорваться в южный штаб, – чтобы вертолет смог отыскать их в этом хаосе скал. Слух о крушении режима lider maximo прошел, должно быть, по всей стране. Сейчас вообще время такое: великий сезон крушения режимов – в Африке, на Ближнем Востоке, в Индонезии, в Центральной Америке… Один Дювалье остался – на случай, если им удастся найти корабль и уплыть на Гаити. Как бы там ни было, но на данный момент никакое преследование им не грозит. По другую сторону Сьерры, на северном склоне, стоят войска генерала Рамона. Если немного повезет, они доберутся туда. Никто за каких-то несколько часов сюда влезть не сможет. Радецки развернул карту и еще раз удостоверился: во всем районе нет ни одной дороги.
Барон сидел на камушке – само бесстрастие. Клетчатый костюм малость помят, ботинки и гетры – в пыли; бурные события последних часов лишили его серого котелка, оставив на память лишь шишку на лбу, но достоинства и превосходства он не утратил – сидел по-прежнему с таким видом, словно вся История, все мировые потрясения и личные беды отдельных людей, происшедшие с Рождества Христова, – нечто вроде ничтожной морской пены, тающей у его ног. Сей персонаж успешно изображал превосходство человека над событиями, но Радецки догадывался, что источник этого бесподобного номера по изображению человеческого достоинства не так уж глубок и таится в кармане Барона – фляжка виски. Но все же следовало признать, что держался он восхитительно, а его манера изображать решительный отказ иметь что-либо общее с человечеством в эти доисторические времена выглядела далеко не худшим образом. Неплохой номер философского плана, и – если Барону удастся выпутаться из этой истории, в которую они все угодили, – остаться не у дел ему никак не грозит. Люди нуждаются в том, чтобы верить – верить в самих себя, а по части человеческого достоинства хорошие номера весьма редки. Безусловно, даже Аушвиц и Хиросима неспособны обесценить ни этот номер, ни ту высочайшую идею, которой одержим его исполнитель. Барона ждет величайшее будущее.
Маленькая индеанка молча сидела на корточках. С тех пор как они двинулись в путь, она выглядела равнодушной ко всему – кроме, пожалуй, зажатых в руках двух пар туфель да трех красивых платьев – ей явно не хотелось их потерять. Ей, наверное, было больше семнадцати – для индеанки уже солидный возраст; вне всякого сомнения, идти вот так куда-то вместе с военными ей доводилось не раз; она знала, что бояться ей нечего, войск и солдат на ее век хватит. Лишь когда Альмайо вырвал у нее из рук часть вещей, намереваясь их выбросить, она принялась царапаться и вопить, выкрикивая ругательства в его адрес и пытаясь выхватить у него свои сокровища. Он, смеясь, побил ее, а когда они последний раз остановились, чтобы передохнуть, грубо ею овладел, не потрудившись даже отойти в сторонку. Перехватив взгляд, брошенный Радецки на дочь посла, он с удивлением спросил:
– Почему бы вам с пей не развлечься?
– Воспитание не позволяет, – ответил Радецки.
Немного погодя он заметил, что Альмайо разговаривает с Диасом и со смехом указывает на девушку, а у Диаса при этом вид какой-то сальный. Радецки взял ружье из рук одного из солдат;
– Пойду посмотрю, не попадется ли чего-нибудь на ужин.
Он стал карабкаться вверх по камням. Если они намерены так далеко зайти в своей жажде подлинности, он готов не только убить Диаса, но и проломить голову самому Альмайо.