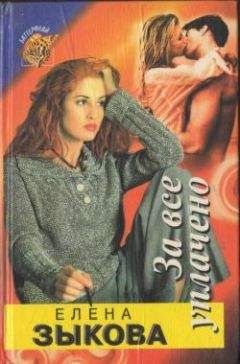– Отпусти хотя бы Ярославу. – Наивно думать, что этот выродок может проявить жалость, но вдруг? – Она будет молчать.
– Вадим, не надо! – Его руки коснулась горячая Ясина ладошка. – Ты же сам видишь, он не остановится.
– Люблю иметь дело со здравомыслящими людьми! – Вениамин широко улыбнулся. – Разумеется, не остановлюсь, но я могу кое-что для тебя сделать. Если ты не станешь дергаться и усложнять мою задачу, я убью тебя быстро и относительно безболезненно. Давай-ка повернись ко мне спиной. Будет логичнее, если наш сумасшедший друг выстрелит тебе в затылок. Эстетичного зрелища не обещаю, но в книгах по криминалистике пишут, что смерть наступает практически мгновенно. Все, времени мало, я и так тут с вами подзадержался! – Он взмахнул пистолетом и скомандовал: – Поворачивайся!
В то короткое мгновение Вадим видел только ее: бледное веснушчатое личико, закушенная губа, а в желтых глазах – страх и отчаянная решимость. Как же он раньше не разглядел, какая у него жена?… А теперь-то уж что, поздно…
– Не дождешься! – Яся упрямо вздернула подбородок. – Хочешь стрелять – стреляй! А я не стану тебе помогать.
– Да? – Вениамин казался озадаченным. – Ну, как знаешь, мое дело предложить.
То, что случилось потом, каленым железом отпечаталось в Вадимовой памяти. Равнодушное лицо Вениамина, подрагивающее пистолетное дуло, тихий металлический щелчок и застывший, точно смола, воздух. Боль пришла через мгновение, невыносимая, выжигающая все в груди, вышибающая из легких яростный крик…
* * *
Яся готовилась умереть. Господи, до чего же страшно и до чего обидно! Умереть и остаться неотомщенной, лечь костьми на дне этого жуткого, привыкшего к смертям оврага, рядом с Вадимом. А ведь у них могло бы получиться… Если бы они попытались исправить то, что можно исправить, простить то, что можно простить. А теперь уже поздно… Их жизнь отмеряется не годами, а мгновениями. Эта сволочь сказала, что картинка будет неэстетичной, а она не хочет, чтобы неэстетичной, боится, что Вадим увидит ее такой. Какие глупые мысли! Не о том нужно думать на пороге вечности. А о чем нужно, она не знает. Не рассчитывала оказаться на этом страшном пороге так рано…
…От выстрела серебристый туман всколыхнулся, взвыл, припал к земле. А птицы, наоборот, взмыли в небо…
…И совсем не больно, только тяжело. И не удержать никак медленно оседающего на ковер из жухлых листьев Вадима. И кровь на ладонях алая-алая, а Вадимово лицо белое, и черными тенями длинные ресницы, и предсмертным стоном холодное облачко. Зачем же он так?! Она ведь почти смирилась, почти придумала, что скажет там, на пороге…
– Вадим! – Руки шарят по куртке, ищут молнию, пытаются расстегнуть куртку, добраться до раны, остановить кровь.
– Яся… – Синие глаза открываются лишь на мгновение. В них отражаются ветки деревьев и кусочек далекого неба. – Яся, прости… – Прохладная ладонь поверх ее пальцев, и венчальное кольцо купается в алой-алой крови…
– Вот черт! – Голос Вениамина злой, визгливый. – Отойди от него! Пусть подыхает!
Не станет она отвечать и не отойдет, не бросит. Потому что пока ладонь Вадима в ее руке, она чувствует биение жизни, и робкая надежда еще теплится.
– Дура! Я приказываю тебе! Требую!
Вениамин в нескольких шагах от них, но подойти не решается. Боится?
У Вадима красивые волосы, смоляно-черные, густые, с редкими серебряными нитями ранней седины. А молнию заклинило, не получается никак расстегнуть пропитавшуюся кровью куртку.
– Ну, как скажешь! Посмотри на меня, дура! Не на него, а на меня гляди! Пришла твоя смерть…
Волчий перстень весь в крови. Синие глаза-камешки разгораются все ярче, это от слез, наверное.
– Ярослава, моя прекрасная леди, посмотрите! – Голос Литоша похож на шелест листьев. – Посмотрите, я не врал вам. Вот оно – пророчество!
Пророчество? Что оно ей теперь?!
– Ярослава!
…Фигура Вениамина в стремительно густеющем тумане едва различима, и выстрел кажется глухим, словно от детской хлопушки. А пуля, вот она, блестящая, беспощадная, мчится к ней стальной мухой, но не долетает, вязнет в воздухе, с тихим шипением падает на землю.
А позади мечущегося Вениамина призрачный силуэт. Шерсть с серебряными искрами, синие, не волчьи глаза, падающие в туман кровавые капли.
– Пророчество! – В голосе Литоша радостное торжество. – Освободилась, отмучилась…
Слышит ли его призрачная волчица? Отступает, растворяется в тумане, уступает место своей волчьей свите.
От предсмертного крика Вениамина хочется зажать уши и зажмуриться, чтобы не видеть, не помнить.
Темнота наступает мгновенно, накрывает овраг непроницаемым куполом, отсекает солнечные лучи. Вот она – волчья ночь. Волки везде, куда ни брось взгляд, грозные, молчаливые. И тишина такая, что слышно биение пульса в ушах. А как стучит сердце Вадима, не слышно… Потому что оно больше не стучит…
Завыть, прижаться щекой к небритой щеке, не отпускать холодеющую руку… Хоть бы скорее умереть! Может, она еще успеет, еще догонит его, встретит там, на пороге. Теперь она знает, что нужно сказать…
* * *
Ложе хоть и мягкое, перинами пуховыми застланное, а не спится. Думы тяжкие, непрошеные в голову лезут, не дозволяют глаз прикрыть. И волчий вой, уже привычный, еженощный, бередит душу.
– …Что, не спится, Вацлав? – Старуха в лохмотьях пестрых, цыганских сидит в кресле супротив кровати, монистами позвякивает, скалит беззубую пасть. Откуда взялась? Чего надобно? – Не зови стражу, не услышит она тебя, Вацлав. – И глаза совсем не старушечьи каменьями синими в темноте горят, а заместо руки левой культя, тряпками кровавыми обмотанная.
– Ты?
– Я. Вот пришла в последнюю дорогу тебя собрать, шепнуть слова прощальные, самые верные.
– Уже шепнула однажды…
– Сам виноват. – Костлявые плечи содрогаются от нечеловечьего смеха, звенят мониста. – Душу свою загубил, на род проклятье накликал, меня не отпустил, кровью к замку своему привязал. Думаешь, радостно мне в зверином обличье? Или родным моим весело волками каждую ночь выть?
– Виноват. – Никуда от синих глаз не скрыться, да и не хочется. Одно только желание: узнать, зачем пришла. – Прости. Не за себя прошу, за детей. Почто ж души невинные губишь, в царство свое волчье утаскиваешь? Меня забери, коли провинился, а их оставь.
– Колечко мое венчальное пошто выбросил? – Вот уже и не старуха перед ним, а та, которую некогда пуще жизни любил, молодая, красивая, синеглазая. – Свое забрал, а мое где?
Где? Наверное, до сих пор в золе лежит…