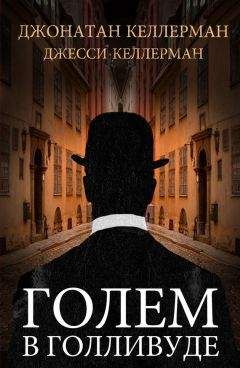Он умрет, разорившись на роуминге.
Выстрелы стихли, по траве зашаркали сапоги.
– Вы вторглись в частное владение.
Не двигаясь, Джейкоб откликнулся:
– Я стучал.
– И что с того?
Джейкоб осмелился высунуть над балюстрадой коробку с конфетами. Поскольку руку не отстрелили, встал и показал бляху:
– Извините. Пожалуйста.
Человек-бульдозер. Мешковатые фланелевые брюки. За семьдесят, пятнисто загорелая лысина, окантованная белоснежными прядями, через плечо связка зайцев, на сгибе руки охотничье ружье.
– Это были предупредительные выстрелы. Пятьдесят ярдов. Я бы с закрытыми глазами вас срезал.
– Не сомневаюсь, сэр.
– Ну то-то. Говорите.
Словно дворецкий, Джейкоб открыл коробку конфет.
– Это что? Ириски?
Человек протопал на террасу и сунул конфету в рот. Розовые щеки его покраснели, он заурчал. Старик гримасничал, словно ему рвали зубы и он получал несказанное удовольствие.
– Какая гадость. – Он проглотил конфету и взял другую.
– Вы Эдвин Черед?
– Мм.
– Я Джейкоб Лев, детектив лос-анджелесской полиции.
– С чем я вас и поздравляю.
– Я по поводу вашего сына Реджи.
– Расширенное толкование слова предпочтительнее.
– Простите?
– Я сразу сказал Хелен, что не собираюсь гробить свою жизнь и раскошеливаться на чужие ошибки.
– Он приемный ребенок, – сказал Джейкоб.
– Разумеется, приемыш. Мой родной сын таким бы не стал. Что он наделал в Лос-Анджелесе?
Джейкоб отметил грамматику: не делает, а наделал.
– Точно не скажу.
– Тогда стоило ли ехать в такую даль?
– Прошлым апрелем он был в Праге?
– В Праге?
– Это в Чехии.
– Я знаю, олух.
Черед причмокнул и взял очередную ириску. В коробке осталось семнадцать конфет.
– Совершенно изумительная гадость, – пробурчал он.
Надо думать, беседа иссякнет вместе с конфетами.
– Так он был в Праге?
– Не знаю и знать не хочу. Он взрослый человек – по крайней мере, так гласит закон. Он вправе разъезжать где пожелает. И я не понимаю, каким боком здесь американский сыщик.
Джейкоб глянул на ружье. Если что, успеет перехватить.
– К сожалению, у меня плохие вести. Пражская полиция обнаружила труп. Похоже, это он.
Черед перестал жевать.
– Сочувствую, – сказал Джейкоб.
Старик оперся на балюстраду. Выкатив глаза, проглотил неразжеванную конфету.
Потом выронил ружье и схватился за грудь. Джейкоб хотел его поддержать, но Черед оттолкнул его руку.
– Что произошло? – задыхаясь, спросил он.
– Вам нехорошо, сэр?
– Что произошло?
– Полной ясности нет, – сказал Джейкоб. – Похоже, его убили…
– «Похоже»? Какого черта вы мямлите? Кто его убил?
– Расследование еще не закончено…
– Ну так заканчивайте, кретин. А то стоит и расспрашивает меня.
– Я сожалею, что принес дурные вести.
– Плевать мне на ваши сожаления. Я хочу знать, что произошло.
– Похоже…
Черед схватил ружье и направил его Джейкобу в живот:
– Еще раз скажете это слово – и я выкрашу стенку вашими кишками.
Пауза.
– Он пытался изнасиловать женщину, – сказал Джейкоб.
Черед никак не откликнулся.
– Девушка вырвалась и убежала. Когда прибыла полиция, он был мертв. Убит.
– Как?
– Что?
– Как его убили?
– Его… – Джейкоб прокашлялся, – обезглавили.
Ружье в руках Череда затряслось.
– Я понимаю, вам тяжело, – сказал Джейкоб.
Черед криво усмехнулся:
– У вас есть сын?
– Нет, сэр.
– Значит, вам не сообщали, что ваш сын убит?
– Нет, сэр.
– Стало быть, вы понятия не имеете, насколько мне тяжело.
– Ни малейшего.
Молчание.
– Хорошо бы взглянуть на его фото, – сказал Джейкоб. – Нужно удостовериться, что это он.
Опустив ружье, через французское окно Черед вошел в дом. Джейкоб последовал за ним.
– Наверное, попросите денег на похороны.
Черед убрал ружье и конфисковал оставшиеся ириски; к нему уже вернулись хладнокровие и надменность.
– Зарубите себе: от меня вы гроша не получите.
В библиотеке главным предметом обстановки был ореховый оружейный шкаф. Светлые пятна на полу и обоях говорили о скатанных коврах, сгинувших картинах. Здесь же обитала алюминиевая раскладушка с шерстяным одеялом и сбитыми простынями. Батарея консервов – фасоль и спаржа – смотрелась неуместно на барочном столике полумесяцем; меж его резных ножек стояли электроплитка и зашкваренная сковородка.
Черед сбросил связку заячьих трупов, взбаламутив пылевых призраков на полу, и шагнул к лестнице:
– Нечего пялиться.
Насчет окон второго этажа Джейкоб ошибся. Их не забыли закрыть. Их, как и лестничные балясины, расстреляли. По сути, дом превратили в тир. Пулевые отверстия, исконопатившие стены и потолки, в размерах варьировались от оспин, оставленных мелкокалиберной винтовкой, до громадных пробоин от дробовика, обнаживших водопроводные трубы. Урон казался бессистемным – одни комнаты целехоньки, другие превратились в руины, – однако усердие, с каким разрушали дом, свидетельствовало о некоей болезненной одержимости.
Все это чем-то напоминало жилище Фреда Перната в Хэнкок-парке. Неприветливость обоих домов выдавала потаенное мужское стремление возродить, так сказать, жизнь в сдохшем генераторе.
Дом – организм, который можно уморить разными способами. Фред Пернат предпочел удушение – перекрыл кислород и свет, спровоцировал ожирение сердца. А вот Эдвин Черец неуклонно стирал грань между внешним и внутренним.
Здесь тоже не было семейных фотографий на стенах. Джейкоб счел это за благо – иначе рано или поздно их разнесли бы в клочья.
– Реджи часто приезжал домой? – спросил он.
– Когда бывал на мели, Хелен его привечала. – На лестнице Черец запыхался. – После ее смерти я это прекратил.
– Давно это было?
– В сентябре четыре года. Мягкотелая была женщина.
– Он больше не приезжал?
– Заявился после похорон – вынюхивал, нельзя ли чего слямзить и продать. Я его выставил и с тех пор не видел.
На втором этаже подошли к двери, присохшей к косяку – так давно ее не открывали. Черец саданул плечом; дверь распахнулась, качаясь на петлях.
– Покои маленького принца.
Маленький принц, которому сейчас перевалило бы за сорок, некогда был мальчишкой. Джейкоба пробрал озноб. Самая обыкновенная мальчишечья комната. Одеяло с узором из гоночных машин, как будто жильцу навеки девять лет. Учебники, гибкая настольная лампа, музыкальный центр для дисков и кассет.
Никаких самодельных чучел.
Или коллекции ножей.